КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ:
Нарративная практика и претворение в жизнь того,
что мы проповедуем.
Нарративная практика и претворение в жизнь того,
что мы проповедуем.
Критическая статья Robert E. Doan
Взято отсюда
Взято отсюда
Нарративная практика исходит из положений постмодернизма и социального конструктивизма; обе этих теории основаны на идее о том, что не существует истин, а есть лишь точки зрения. Таким образом, нарративные практики всегда старались больше всего прислушиваться к точкам зрения своих клиентов во время избавления их от гнетущего веса доминантных, значимых культурных историй. Прислушивались ли они столь же искусно и охотно к точкам зрения других профессионалов и коллег вне области нарративной практике? Этот вопрос обсуждается в статье с позиций предположений, лежащих в основе нарративной практике. Делается вывод о том, что, возможно, нарративная практика неумышленно пострадала из-за людского стремления к материализации метафор и обожествлению своих лидеров.
Представим себе племя американских индейцев в 1600-е гг. Они сидят на поляне вокруг костра. Недалеко от них шумит красивая река. К ним подходит группа европейцев. Индейцы приветствуют их и приглашают к костру. Делятся едой. Начинается беседа (предположим, что европейцы и индейцы могут разговаривать друг с другом). В ходе вечера беседа касается сотворения мира. Белые люди рассказывают свою европейскую, христианскую версию, где говорится про райский сад. Индейцы вежливо слушают и заключают, что это очень интересная и хорошая история. Они часто будут рассказывать ее другим индейцам. Затем они пытаются рассказать посетителям свою историю о сотворении мира. Белые люди потрясены. Неужели эти дикари не осознают, что только одна история о сотворении мира имеет право на существование? Индейцы не понимают этого и опять пытаются рассказать свою историю. Белые люди, посовещавшись между собой, заключают, что люди, приютившие их, не исповедующие христианство дикари, и их долг спасти их, донести до них истину. Индейцы не воспринимают их идеи и их убивают. К концу битвы умирает 28 миллионов индейцев – из-за пуль, сабель, оспы, передающейся через одеяла. От голода, вызванного истреблением бизонов. От всех причин, которые только можно себе представить. Эти факты не включаются в историю белого человека. Каким-то образом они были забыты. Но они имели место. От имени истории. Истории, называющейся «предначертанием судьбы».
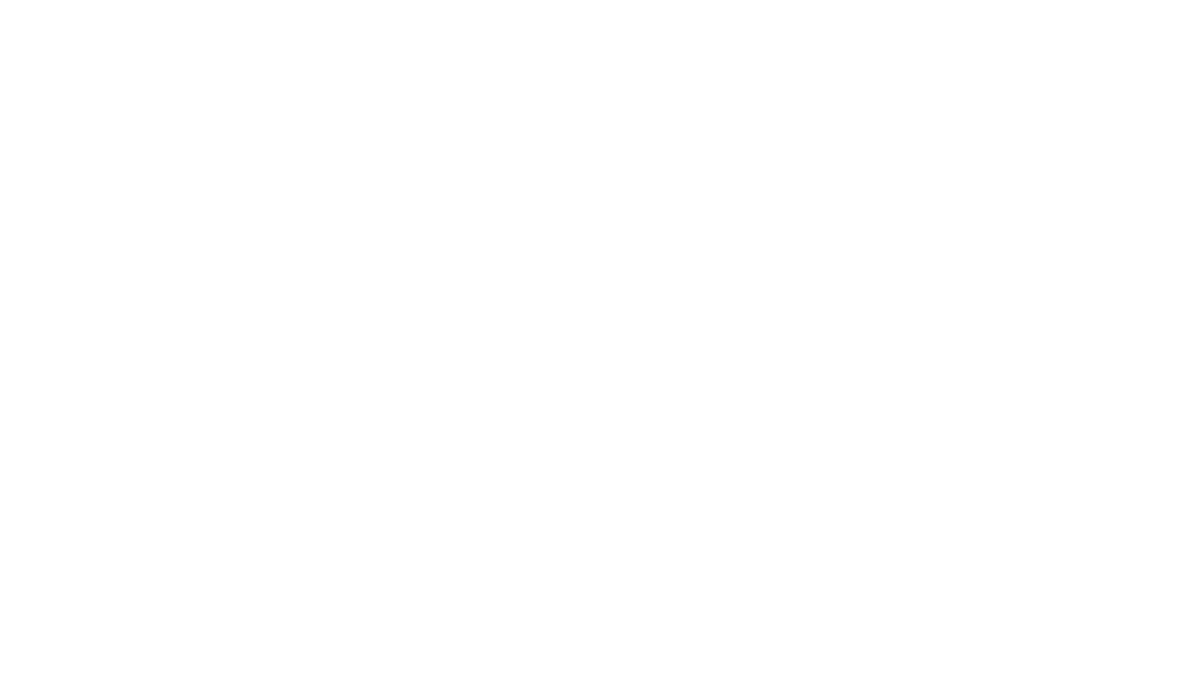
Вышеприведенный рассказ иллюстрирует людскую склонность к материализации метафор, обожествлению лидеров и степени, до которой могут быть приняты всерьез истории, дающие право и/или привилегию на что-либо. Как говорил Pepper(1942): «после того, как метафора сыграла свою роль в формировании восприятий, ее образ начинает теряться, затухать. Ее свойство «как бы» забывается и люди, использующие метафору, начинают воспринимать ее буквально, т.е. она начинает материализовываться (с. 4-5). Davidson (1978) высказывал другое мнение: «Это можно назвать медленным суицидом или утонченным поклонением. Но разумно мыслящие люди должны преклонять колени перед высшим смыслом, если хотят избежать саморазрушения. В духовном мире смысл является кислородом» (с. 280-281). O'Hara и Anderson (1991) отмечали, что человеческий мозг является инструментом, создающим и оценивающим реальность, и, как таковой, не может не иметь систему взглядов (убеждений). Даже если рассматривать различные системы взглядов как истории, то истории все еще остаются важными отражениями нашей потребности в понимании мира – упорядочивании хаоса.
“
Истории – все, что у нас есть, в некотором смысле, это отражение нашей сущности (с. 25)
Действительно, даже поверхностное изучение сегодняшней действительности подтверждает эти точки зрения. Трудно найти нацию, религию или политическую систему, которая бы не заявляла о себе как о лучшей, истинной и выдающейся из всех существующих. Любой другой человек с отличной точкой зрения, цветом кожи, политическими взглядами или религиозными убеждениями (и это только немногие из возможных отличий) автоматически признается дефектным в некотором смысле – зачастую в генетическом. При этом всегда кажется, что Бог на нашей стороне, а не чьей-нибудь еще.
В последние 10 лет появился новый вид психотерапии, в качестве одного из своих основных приоритетов рассматривающий формируемые обществом истории, дающие право и/или привилегию на что-либо. Этот новый вид называется «нарративной практикой», и его последователи особенно заинтересованы в разрушении (выявлении) культурных историй, которые являются «нормативными», т.е. в деталях описывают условия, которые необходимо выполнить, чтобы аутентично вписываться в заданный социологический контекст. Нарративные практики отдают предпочтение точкам зрения своих клиентов, а не каким-либо формальным или академическим знаниям. Их цель – освободить клиента от давления «Великих Историй», которые изображают отдельных индивидуумов дефективными и отводят их на задний план, по сравнению с другими индивидуумами. По мере того, как развивалась нарративная практика, для достижения этих целей было разработано много элегантных и эффективных путей, использующих в качестве инструмента беседу с психотерапевтом. Быстро увеличивалось число научных конференций, книг, университетских курсов по данной тематике. Кажется, что этот новый вид психотерапии привлек значительное число психотерапевтов. Я являюсь одним из них, и я изучаю и практикую этот подход последние 10 лет. За это время я начал беспокоиться о том, что нарративная практика неумышленно пострадала из-за людского стремления к материализации метафор и обожествлению своих лидеров, а также из-за того, что предположения, лежащие в ее основе, каким-то образом являются более привилегированными, чем предположения, использующиеся невежественными дикарями и варварами, живущими по соседству (это должно быть вам уже знакомо).
Цель этой работы – поднять и, надеюсь, частично ответить на вопрос о том, насколько нарративная практика придерживалась своих предположений, особенно внутри своих границ, и при взаимодействии с психотерапевтами, использующими другие модели и теории. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вкратце обсудим предположения, лежащие в основе нарративной практике, а далее перейдем к обсуждению и постановке вопросов, касающихся достижений нарративной практики по отношению к ее идеям. Последнее, я почти уверен, вызовет дискуссию и изложение других точек зрения по этому вопросу, что мной только приветствуется. Я осмеливаюсь надеяться на то, что подобная дискуссия будет вызвана этой статьей.
В последние 10 лет появился новый вид психотерапии, в качестве одного из своих основных приоритетов рассматривающий формируемые обществом истории, дающие право и/или привилегию на что-либо. Этот новый вид называется «нарративной практикой», и его последователи особенно заинтересованы в разрушении (выявлении) культурных историй, которые являются «нормативными», т.е. в деталях описывают условия, которые необходимо выполнить, чтобы аутентично вписываться в заданный социологический контекст. Нарративные практики отдают предпочтение точкам зрения своих клиентов, а не каким-либо формальным или академическим знаниям. Их цель – освободить клиента от давления «Великих Историй», которые изображают отдельных индивидуумов дефективными и отводят их на задний план, по сравнению с другими индивидуумами. По мере того, как развивалась нарративная практика, для достижения этих целей было разработано много элегантных и эффективных путей, использующих в качестве инструмента беседу с психотерапевтом. Быстро увеличивалось число научных конференций, книг, университетских курсов по данной тематике. Кажется, что этот новый вид психотерапии привлек значительное число психотерапевтов. Я являюсь одним из них, и я изучаю и практикую этот подход последние 10 лет. За это время я начал беспокоиться о том, что нарративная практика неумышленно пострадала из-за людского стремления к материализации метафор и обожествлению своих лидеров, а также из-за того, что предположения, лежащие в ее основе, каким-то образом являются более привилегированными, чем предположения, использующиеся невежественными дикарями и варварами, живущими по соседству (это должно быть вам уже знакомо).
Цель этой работы – поднять и, надеюсь, частично ответить на вопрос о том, насколько нарративная практика придерживалась своих предположений, особенно внутри своих границ, и при взаимодействии с психотерапевтами, использующими другие модели и теории. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вкратце обсудим предположения, лежащие в основе нарративной практике, а далее перейдем к обсуждению и постановке вопросов, касающихся достижений нарративной практики по отношению к ее идеям. Последнее, я почти уверен, вызовет дискуссию и изложение других точек зрения по этому вопросу, что мной только приветствуется. Я осмеливаюсь надеяться на то, что подобная дискуссия будет вызвана этой статьей.
Основные предположения,
лежащие в основе нарративной практики
лежащие в основе нарративной практики
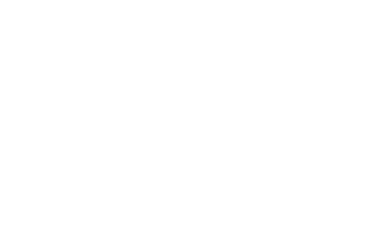
Нарративная практика берет свое начало в постмодернизме и социальном конструктивизме. Parry и Doan (1994) предположили, что нарративная практика чрезвычайно подходит для ответа на жизненные испытания в постмодернистском мире и могла возникнуть благодаря постмодернистским обстоятельствам, которые все больше и больше на нас воздействуют. Постмодернистская эра началась благодаря возросшему разочарованию в социальных, религиозных, экономических и политических Великих Историях нашего времени. Как отмечали O'Hara и Anderson (1991):
«Общество входит в постмодернистскую эру, когда оно теряет свою веру в существование абсолютной правды – и даже веру в возможность открытия абсолютной правды. Великие системы взглядов, такие как религии, идеологии, философские направления, начинают рассматриваться как «социальные истолкования реальности». Эти системы могут быть полезными, даже признаваться глубоко правильными, но правильными в новом, условном, постмодернистском смысле. Мало кто ожидает, что одна истина удовлетворит всех» (с. 22)
Nichols и Shvartz (1997) утверждали, что для постмодернизма характерна идея о том, что нет реальностей, а есть только точки зрения, и необходимо исследовать влияние различных точек зрения на жизнь людей. Постмодернисты акцентируют свое внимание на том, как создается смысл тех или иных явлений, и как с его помощью конструируется реальность. Наиболее подходящим лозунгом, выражающим суть постмодернизма, является следующий: «берегитесь тирании оценок, претендующих на исключительность». Особенно тех, которые приписывают себе абсолютную истинность и не допускают мысли о том, что в чем-то могут от нее отклоняться. Постмодернисты живут в мультиверсуме и с большим подозрением относятся к тем, кто заявляет о своих привилегиях на универсум.
Социальный конструктивизм, как теория, близкая к постмодернизму, придает особое значение силе социальных взаимодействий при генерации смыслов тех или иных вещей и явлений, наполняющих жизнь людей из конкретных социальных групп. При этом отмечается, что генерируемые смыслы тесно связаны с языковыми системами, в которых они формируются, т.е., фактически, большая часть смыслов конструируется отдельными людьми или социально-культурными институтами. Miller Mair (1988) чрезвычайно элегантно констатировал вышеизложенные факты:
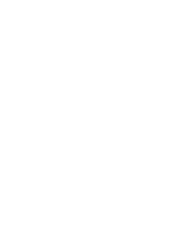
Miller Mair
«Истории – это наши привычки. Мы живем в них и живем ими. Они создают миры. Нам неведом никакой другой мир, кроме мира, созданного историями. Истории наполняют жизнь смыслом. Они нас связывают и приводят к расставаниям. Мы населяем великие истории нашей культуры. Мы живем историями. Мы живем по канонам историй нашей расы и местности. Необходимо глубже изучить именно эту охватывающую и образующую роль историй. Мы, каждый из нас, являемся точками, в которых частично видны истории нашей местности и временной эпохи. Мы находимся в историях, и истории находятся внутри нас.» (с. 128)
Я отмечал (1997), что последователей социального конструктивизма частично интересуют рассуждения, использующие некие внутрикультурные стандарты и нормы, посредством которых измеряются и оцениваются люди. Социальные конструктивисты стараются разрушить эти убеждения путем документирования того, как превалирующие в обществе нормы изменялись с течением времени и как возникала убежденность в обоснованности их применения в качестве инструмента для обособления и подчинения людей. Социальные конструктивисты избегали «экспертных областей знания» и отдавали предпочтения жизненному опыту индивидуумов. Социальный конструктивизм стремится прислушиваться прежде всего к мнениям отдельных людей и обращать внимание на их чувства, намерения и предпочтения.
Претворяет ли нарративная практика
в жизнь то, что она проповедует?
в жизнь то, что она проповедует?
Из вышеизложенного следует, что терапия, основанная на подобных идеях, не должна быть склонной к позиционированию себя в качестве единственной точки зрения, на которую должны опираться остальные психотерапевты и теории. Более того, в рамках нарративного подхода необходимо чрезвычайно толерантно относиться ко всему, включая выбор различных способов и инструментов осуществления консультаций. Следует ожидать от практиков нарративного подхода нежелания придерживаться «единственного верного пути проведения нарративной практике». Это поднимает несколько вопросов.
- Справедливо ли утверждение о том, что нарративные практики лучше претворяют в жизнь то, что они проповедуют, со своими клиентами, но не с коллегами? Что касается других моделей, лежащих в основе психотерапии, особенно семейной, нет ли такого, что они недооцениваются или резко осуждаются?
- Есть ли в других моделях, лежащих в основе семейной психотерапии, ценная информация? Найдется ли место для структурной или стратегической терапии при рассмотрении клинического случая конкретной семьи? Или нарративная практика превратилась в столь привилегированную историю, что больше не рассматривает другие виды терапии даже в качестве потенциально полезных?
- Существует ли модель нарративной практике, которая начинает материализовываться как «верный способ» среди нарративных практиков? Если да, то как это соотносится утверждениями постмодернизма и социального конструктивизма, лежащими в основе терапии?
- Не выглядят ли «белыми воронами» психотерапевты, использующие различные методики для своей работы, с позиций норм и стандартов, формирующихся в сообществе нарративных практиков? Существует ли развивающийся набор «рецептов для терапевта», следование которым выступало бы в качестве критериев для определения степени соответствия терапии нарративному подходу?
- Существует ли «правильная модель», материализуемая сообществом нарративных практиков, и кто больше всего выиграет в случае успешности данного процесса? И кто проиграет?
- Если подобная материализация имеет место, кто ответственен – те, кто способствовал возникновению данного подхода или их алчные последователи?
- Как выразились Alan Parry и Doan (1994):
«Достаточно ли мы отважны для того, чтобы перейти в область постмодернизма без какой-либо защиты – даже морального превосходства, основывающегося по меньшей мере на неявном предположении о том, что конкретная точка зрения или способ работы является немного более предпочтительным или верным, чем все остальные? Одним словом, готовы ли мы работать, всецело полагаясь на достаточно шаткое убеждение о том, что в интрасубъектной и межсубъектной сфере, в которой имеет место терапия, все есть интерпретация?» (с. 22)
Действительно, столкнулась ли нарративная практика с подобными вызовами? Или ее последователи, следуя старинной человеческой тенденцией к материализации, будут вести себя так, как будто ее взгляд на суть вещей является, по крайней мере, немного лучшим и правильным, чем все остальные? По моему мнению, эта тенденция уже имеет место, и нарастает опасность, что в рамках нарративного подхода будут нарушены предположения, лежащие в его основе. Я считаю, что существует хорошо развитый «внутренний круг» психотерапевтов, которых считают «истинными и аутентичными», и что к мнениям других терапевтов, не входящих в этот круг, не только относятся как к выбивающимся из общего ряда, но и вовсе не прислушиваются. В этой связи возникают следующие вопросы:
- Отдаем ли мы предпочтение жизненному опыту других профессионалов в той же мере, как и жизненному опыту наших клиентов?
- Не игнорируем ли мы неумышленно все, что связано с формальными и культурными областями знания, считая их подавляющими и застарелыми? Можно ли найти что-то ценное в культурном наследии, эволюционировавшем сотни лет?
- Не отдавалось ли чрезмерное предпочтение мнениям Фуко и Деррида в ущерб мнениям других философов с равной репутацией?
Иллюстративный пример
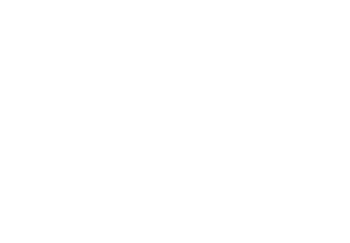
Эволюционная психология развивалась в то же время, что и нарративная практика. Основные допущения, лежащие в основе этой области знаний, заключаются в том, что среди людей, как и у животных, формировались генетические тенденции как результат взаимодействия с окружающей средой с течением времени, и что продуктом эволюционно наследуемых признаков стали «правдоподобные истории», в которых с наибольшей частотой описываются отдельные виды человеческого поведения в заданном контексте.
Например, на основе эволюционной теории, можно предсказать, что неродные отец и мать будут с гораздо большей вероятностью плохо обходиться со своими приемными детьми, чем с родными. Данный факт был подтвержден исследованиями. Неродные отец и мать совершают детоубийство в 60 раз чаще, чем биологические родители (Hively, 1997; Tudge, 1997). Если бы мы отдавали предпочтение мнениям эволюционных психологов также, как и своим клиентам, как бы мы реагировали на подобные заявления? Отвергли бы мы их как эссенциалистские идеи о человеческой природе, по сути, являющиеся попытками захвата власти тех, кто их распространяет? Препятствовали бы мы любым попыткам разработки общих описаний семей или отдельных людей?
Замечали ли мы, что социально конструируемые области знания, которые мы продуцируем с помощью наших языковых систем, являются побочными продуктами многих лет генетической эволюции? Не отмахиваемся ли мы от философской точки зрения о том, что c течением эволюции образовывались социальные группы людей, способствующие расширению языкового объема, и что эти социальные группы, равно как и человеческая способность к разработке планов действий, которым сообща следовали все окружающие, увеличили наши шансы на выживание? Социальный конструктивизм есть не что иное, как описание одного из самых важных результатов человеческой эволюции, а не доказывание того, почему мы должны от нее отмахнуться. Мы начали рассказывать истории посредством соотнесения наборов символов, используемых в языке, с окружающими нас явлениями. Мы не можем не делать этого. То, чем мы занимаемся в социальном контексте, обеспечивает обмен подобными историями между отдельными людьми и сообществами людей. На этой планете, мы являемся тем биологическим видом, который документирует все происходящее, путем пересказа историй другим людям. Мы являемся инструментами, которые придают форму социальному конструктивизму. Мы можем делать это, поскольку мы для этого достаточно генетически оснащены, и эта оснащенность возникла в результате нашего взаимодействия с окружающим миром.
Парадоксально, но отвержение любой точки зрения, основанной на генетическом или биологическом объяснении человеческого поведения от имени социального конструктивизма фактически приводит к еще большему обуславливанию нашего поведения генетическими факторами. Эволюционная психология говорит нам, что в основном генетическое влияние есть не что иное как предрасположенность, а не предопределенность. Но наша способность быть выше подобных генетических предпосылок сильно зависит от осознания того, что они существуют. Знание влечет власть – шанс преодолевать генетически обусловленные импульсы. Оно помогает нам осознать, что нам придется это сделать, и генетика нам не поможет. Это аналогично тому, чтобы пребывать в осведомленности относительно культурных дискурсов (деконструкции) так, чтобы принимать взвешенные по отношению к ним решения.
Парадоксально, но отвержение любой точки зрения, основанной на генетическом или биологическом объяснении человеческого поведения от имени социального конструктивизма фактически приводит к еще большему обуславливанию нашего поведения генетическими факторами. Эволюционная психология говорит нам, что в основном генетическое влияние есть не что иное как предрасположенность, а не предопределенность. Но наша способность быть выше подобных генетических предпосылок сильно зависит от осознания того, что они существуют. Знание влечет власть – шанс преодолевать генетически обусловленные импульсы. Оно помогает нам осознать, что нам придется это сделать, и генетика нам не поможет. Это аналогично тому, чтобы пребывать в осведомленности относительно культурных дискурсов (деконструкции) так, чтобы принимать взвешенные по отношению к ним решения.
Возможны и другие истории, пришедшие из генетики: женщины выбирают себе таких спутников жизни, которые способны обеспечить безопасное будущее для них самих и их общих детей. Мужчины склонны выбирать тех женщин, которые выглядят здоровыми (о здоровье свидетельствует соотношение бедер и талии 1:3) и, соответственно, смогут родить им детей, имеющих большие шансы на выживание (Buss, 1994). У нас есть также тенденция к самообману, мы притворяемся, что наши истории имеют больший вес, чем истории других людей (Wright, 1994).
Свое «я» может рассматриваться как социально конструируемая сущность, но данные генетики и нейропсихологии постоянно влияли на этот процесс. Мы гораздо более склонны конструировать истории о самих себе, чем о других. При этом наиболее вероятными являются истории, в которых отдается предпочтение нашим взглядам на жизнь, взглядам нашей семьи, нашей культуры и других социальных групп, имеющих в нашей жизни особое место. Нарративные практики, со всеми их постмодернистскими предположениями, не являются исключением.
Не выплескивают ли вместе с водой ребенка нарративные практики от имени совместной терапии и «не-знания»? Не приводит ли это к идее о том, что данные нейропсихологии и генетические предпосылки ложны? Не стимулирует ли это нас к задвиганию на задний план тех, чей опыт говорит о том, что генетика должна играть здесь важную роль? Не довели ли мы концепцию «не-знания» до того, что она стала нарушать предпосылки, лежащие в ее основе? Не отдавали ли мы предпочтение «не-знанию» до такой степени, что принудили молчать тех, кто знает «что-нибудь»? Как отмечалось у Nichols и Schwartz (1997):
Не выплескивают ли вместе с водой ребенка нарративные практики от имени совместной терапии и «не-знания»? Не приводит ли это к идее о том, что данные нейропсихологии и генетические предпосылки ложны? Не стимулирует ли это нас к задвиганию на задний план тех, чей опыт говорит о том, что генетика должна играть здесь важную роль? Не довели ли мы концепцию «не-знания» до того, что она стала нарушать предпосылки, лежащие в ее основе? Не отдавали ли мы предпочтение «не-знанию» до такой степени, что принудили молчать тех, кто знает «что-нибудь»? Как отмечалось у Nichols и Schwartz (1997):
«Пыл и шовинизм некоторых последователей более новых моделей, таких как нарративная и фокусирующаяся на решениях, кажутся анахронизмом в этой постмодернистской эре. Кажется, что мы уже не можем принимать себя всерьез» (с. 347).
Кажется, что в этом высказывании, равно как и в нижеследующих наблюдениях, они точно подметили суть происходящего.
Между тем, важно помнить, что в то время как постмодернистская, конструкционистская революция была ведущей историей для прошедшего десятилетия, семейные психотерапевты, практикующие менее новомодные подходы (поведенческая, психоаналитическая, системная, структурная, Бовена, эмпирическая, интегративная) продолжали свою работу. Мы надеемся, что сможем показать, что эти модели не остались неизменными. Воодушевляющие нововведения, появляющиеся в них, привлекают меньше внимания, поскольку они не связаны с радикально новыми направлениями, но эти направления психотерапии не менее важны. В то время как для нашей области науки полезно исследовать девственные территории, не менее важно и основывать свою деятельность на множестве идей или практик, имеющих более длительную историю. Каждая область знаний нуждается в исследователях и садовниках. У семейной психотерапии очень много первых, но недостаточно вторых (с. 348)
Между тем, важно помнить, что в то время как постмодернистская, конструкционистская революция была ведущей историей для прошедшего десятилетия, семейные психотерапевты, практикующие менее новомодные подходы (поведенческая, психоаналитическая, системная, структурная, Бовена, эмпирическая, интегративная) продолжали свою работу. Мы надеемся, что сможем показать, что эти модели не остались неизменными. Воодушевляющие нововведения, появляющиеся в них, привлекают меньше внимания, поскольку они не связаны с радикально новыми направлениями, но эти направления психотерапии не менее важны. В то время как для нашей области науки полезно исследовать девственные территории, не менее важно и основывать свою деятельность на множестве идей или практик, имеющих более длительную историю. Каждая область знаний нуждается в исследователях и садовниках. У семейной психотерапии очень много первых, но недостаточно вторых (с. 348)
Дальнейшее обсуждение
Parry и Doan (1994) сформулировали конкретные преимущества нарративного подхода, а именно, какова была роль историй и что еще они способны делать. Предлагаемые ниже постулаты изложены в немного измененной форме. В формулировках обращения к клиентам психотерапевтов заменены на обращения к самим психотерапевтам, взаимодействующим между собой – особенно тем, принадлежит к кругу нарративных практиков.
Постмодернистский мир характеризуется тем, что в нем отсутствует легитимное мерило, по отношению к которому можно было бы измерять терапевтические стили и практики, как свои, так и других людей. Что из этого следует? Что может предложить нарративная практика в подобных условиях?
Голос каждого психотерапевта становится самоузаконенным. Истории, рассказываемые словами психотерапевта, основанные на его или ее жизненном опыте, не обязаны проверяться на аутентичность высшим судом или набором экспертов. Попытки других психотерапевтов подвергнуть сомнению аутентичность этих историй сами по себе являются нелегитимными. Они насильственны и являются разновидностью терроризма или колониализма, когда заходят слишком далеко. Я использую слишком резкие формулировки, но подобные формулировки использует много нарративных психотерапетов при работе со своими клиентами, когда они освобождают их от влияния каких-либо установок. Можно ли аналогично рассматривать влияние историй других психотерапевтов на свою собственную?
Таким образом, одной из основных задач постмодернистского, нарративного психотерапевта становится воздействие на других нарративных практиков, с целью способствовать отстаиванию их собственных точек зрения и жизненного опыта для применения в практике. Это не означает появление какого-то более предпочтительного мерила окружающей действительности в виде набора историй или экспертов, к мнению которых стоит больше прислушиваться, чем к мнению остальных. Никто под видом следования наиболее предпочтительной истории о том, как должна проводиться нарративная практика, в любых обстоятельствах не имеет права отбирать легитимность у чьей-либо истории.
Когда нет центральной узаконенной истории, с помощью которой должны оцениваться идеи психотерапевтов, тогда каждый психотерапевт освобождается от предположения о том, что великие истории любых типов могут воспитывать – что каждый человек имеет только одну версию своего «Я» как психотерапевт. Скорее, в случае различных миров и языков, различные психотерапевтические «Я» приходят на помощь – а именно те, которые наилучшим образом подходят к ситуации и личности клиента.
Помощь каждому психотерапевту в высвобождении историй, преданных забвению из-за мнений отдельных людей также подразумевается. Свержение Единственного и Однообразного является одним из основных преимуществ и целей нарративного, постмодернистского подхода.
Наконец, среди разнообразия интерпретаций и способов существования мы должны найти способ, позволяющий участникам нарративного сообщества чувствовать себя связанными друг с другом, в лучшем смысле этого слова. Мы бы поняли, что разделяем определенные предположения и отпраздновали бы факт того, что эти предположения могут на практике принимать самые разные формы посредством различных дискуссий.
Постмодернистский мир характеризуется тем, что в нем отсутствует легитимное мерило, по отношению к которому можно было бы измерять терапевтические стили и практики, как свои, так и других людей. Что из этого следует? Что может предложить нарративная практика в подобных условиях?
Голос каждого психотерапевта становится самоузаконенным. Истории, рассказываемые словами психотерапевта, основанные на его или ее жизненном опыте, не обязаны проверяться на аутентичность высшим судом или набором экспертов. Попытки других психотерапевтов подвергнуть сомнению аутентичность этих историй сами по себе являются нелегитимными. Они насильственны и являются разновидностью терроризма или колониализма, когда заходят слишком далеко. Я использую слишком резкие формулировки, но подобные формулировки использует много нарративных психотерапетов при работе со своими клиентами, когда они освобождают их от влияния каких-либо установок. Можно ли аналогично рассматривать влияние историй других психотерапевтов на свою собственную?
Таким образом, одной из основных задач постмодернистского, нарративного психотерапевта становится воздействие на других нарративных практиков, с целью способствовать отстаиванию их собственных точек зрения и жизненного опыта для применения в практике. Это не означает появление какого-то более предпочтительного мерила окружающей действительности в виде набора историй или экспертов, к мнению которых стоит больше прислушиваться, чем к мнению остальных. Никто под видом следования наиболее предпочтительной истории о том, как должна проводиться нарративная практика, в любых обстоятельствах не имеет права отбирать легитимность у чьей-либо истории.
Когда нет центральной узаконенной истории, с помощью которой должны оцениваться идеи психотерапевтов, тогда каждый психотерапевт освобождается от предположения о том, что великие истории любых типов могут воспитывать – что каждый человек имеет только одну версию своего «Я» как психотерапевт. Скорее, в случае различных миров и языков, различные психотерапевтические «Я» приходят на помощь – а именно те, которые наилучшим образом подходят к ситуации и личности клиента.
Помощь каждому психотерапевту в высвобождении историй, преданных забвению из-за мнений отдельных людей также подразумевается. Свержение Единственного и Однообразного является одним из основных преимуществ и целей нарративного, постмодернистского подхода.
Наконец, среди разнообразия интерпретаций и способов существования мы должны найти способ, позволяющий участникам нарративного сообщества чувствовать себя связанными друг с другом, в лучшем смысле этого слова. Мы бы поняли, что разделяем определенные предположения и отпраздновали бы факт того, что эти предположения могут на практике принимать самые разные формы посредством различных дискуссий.
Заключение
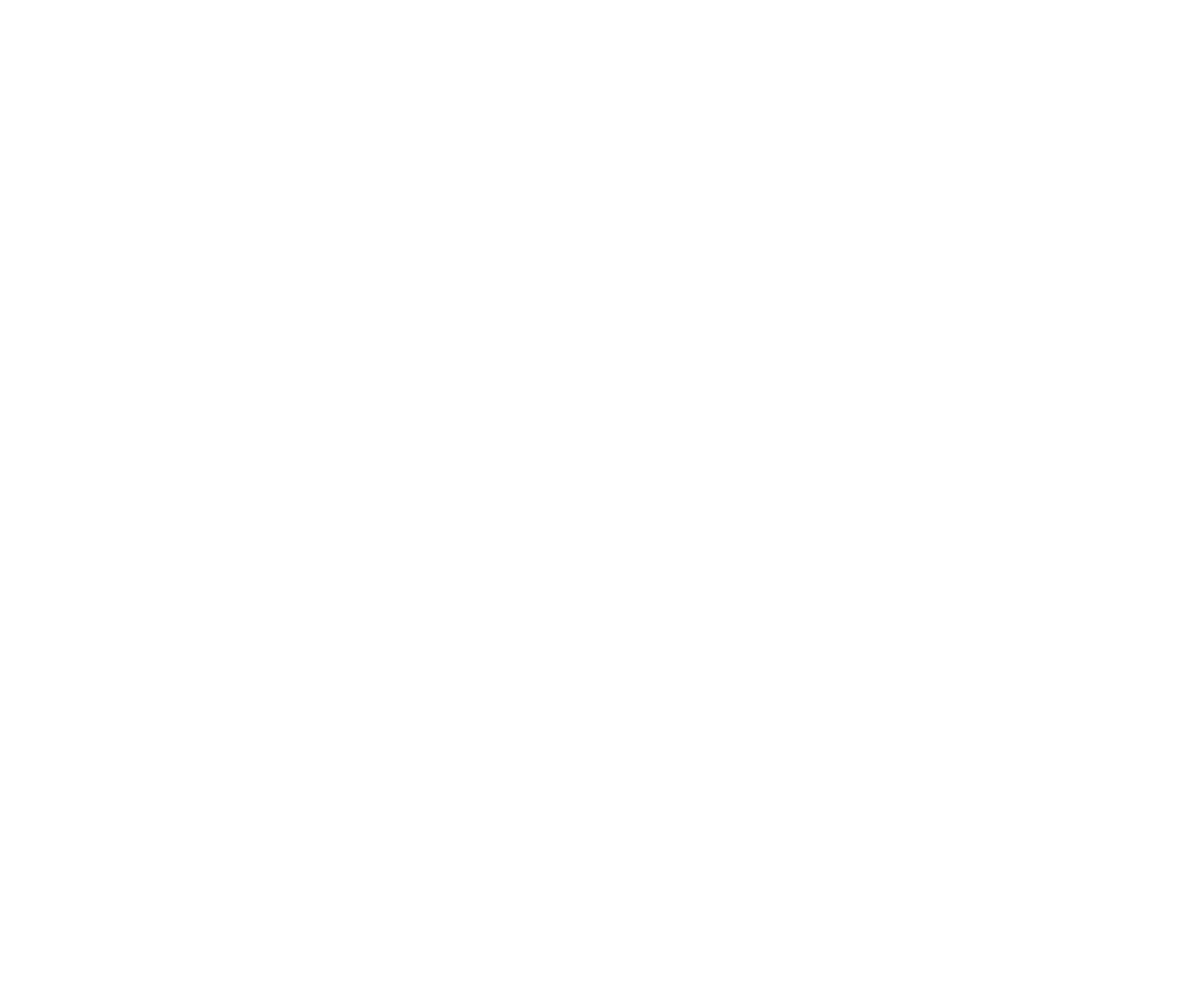
Определенно нужно упомянуть об иронии, которая тут присутствует. Заключается она в том, что когда группа людей рекомендует толерантность и признание мнений, выбивающихся из общего ряда, могут ли люди, входящие в эту группу, быть столь же толерантны по отношению к разнице в собственных рангах внутри группы? Может ли группа людей, использующих идеи постмодернизма и социального конструктивизма, понять, что они склонны нарушать эти предпосылки равно как и любая другая группа людей? Например, может ли эта группа людей быть толерантной по отношению к тому, кто хочет заниматься нарративной практикой без усматривания причин проблемы во внешних обстоятельствах?
Можем ли мы понять – и честно жить с тем, что нарративная практика является социально конструируемой реальностью, равно как и любой другой набор идей? Она является ни более, ни менее предпочтительной. Как бы то ни было, если мы будем вести себя так, что она все-таки является немного более предпочтительной, не окажемся ли мы в той ситуации, что она будет менее предпочтительной? Действительно ли мы готовы к жизни в постмодернистском пространстве, со всей этой неопределенностью и духовным свободным падением? Можем ли мы рассматривать наши предположения лишь в качестве предположений и быть достаточно осмотрительными для того, чтобы не поверить в их истинность?
Можем ли мы понять – и честно жить с тем, что нарративная практика является социально конструируемой реальностью, равно как и любой другой набор идей? Она является ни более, ни менее предпочтительной. Как бы то ни было, если мы будем вести себя так, что она все-таки является немного более предпочтительной, не окажемся ли мы в той ситуации, что она будет менее предпочтительной? Действительно ли мы готовы к жизни в постмодернистском пространстве, со всей этой неопределенностью и духовным свободным падением? Можем ли мы рассматривать наши предположения лишь в качестве предположений и быть достаточно осмотрительными для того, чтобы не поверить в их истинность?
“
Или мы неумышленно присоединимся к старинному воплю:
«Король умер, да здравствует король!»
Или это уже произошло?
«Король умер, да здравствует король!»
Или это уже произошло?

