Что такое хорошая история и как мы можем её рассказать?
Нарративная терапия как практика рассказывания альтернативной истории
Нарративная терапия как практика рассказывания альтернативной истории
Том Стоун Карлсон, доктор философии
North Dakota State University
North Dakota State University
Идея Практики Внутренних Свидетелей[1] возникла, когда у нас появилось стремление делать больше в своей работе. Стремление делать больше в работе с людьми, чьи жизни оказались под влиянием особенно властных проблемных историй. Людей, которые пострадали от ужасных последствий насилия и жестокости и чьи жизни также были исполнены красоты, триумфа и неукротимости; кто приводил нас в восхищение, но чья восхитительность каким-то образом ускользала от их внимания, а нам не хватало возможностей предложить им что-то большее, чем спасательный круг, там, где они нуждались в безопасной лодке. Уверен, вам знакомы сложности, с которыми сталкиваешься перед лицом таких властных и безжалостных историй. Временами в проблемных историях появляются трещины, позволяющие человеку получить передышку от их хватки; но трещина обычно зарастает и человек снова оказывается в клешнях проблемной истории. Возможно, это особенно знакомо тем, кто работает преимущественно с людьми, пострадавшими от насилия и жестокости и переживающими последствия в виде как будто всепроникающей травмы.
В стремлении найти способы делать больше в своей работе...способы, которые помогут сделать что-то правильное для обращающихся к нам людей...способы, которые помогут ответить на вопрос «как может ощущаться восстановленная справедливость?»...мы поняли, что в таких обстоятельствах недостаточно просто дать людям рассказывать свои истории. Иногда, как пишет Майкл Уайт в своих трудах по церемониям самоопределения, нам нужны другие, которые расскажут наши истории (White, Narrative ways of working with trauma) и сделают это таким образом, что человек, чья история рассказывается, смог стать её свидетелем, слушателем извне, членом аудитории. Если мы захотим принять приглашение Майкла к рассказыванию историй других людей, то быстро поймём, что нам нужно узнать гораздо больше о том, что же означает рассказать хорошую историю.
Так что, читатель, я подумал, что расскажу вам историю о том, какую значимость мы можем увидеть в рассказывания хорошей истории в нарративной терапии.
Так что, читатель, я подумал, что расскажу вам историю о том, какую значимость мы можем увидеть в рассказывания хорошей истории в нарративной терапии.
Примечание 1
Insider Witnessing Practices - IWP
Впервые я посетил воркшоп Дэвида весной 2014 года. Воркшоп проходил под названием «Что такое хорошая история?», и Дэвид начал с провокационного вопроса: «Как получилось, что мы именуем себя нарративными терапевтами и до сих пор столько немногое знаем о том, что такое хорошая история?» Фактически, Дэвид посетовал на то, как мало было написано на тему историй в нарративной терапии, — и это с учётом того, что, когда речь заходит о такой работе, истории являются её основой. Его вопрос заставил меня задуматься. Вот я, работаю с людьми над конструированием альтернативных историй, и не имею никакого представления о том, что же такое хорошая история; не имею никаких идей о том, что делает историю убедительной; что наделяет её способностью одержать победу; или, словами Майкла, что делает её способной «искоренить проблемную историю». Всё, что я узнал об истории в нарративной терапии, так это что у неё есть прошлое, настоящее и будущее и что развитие альтернативной истории в терапии включает в себя связывание событий во времени; событий, которые остались незамеченными из-за влияния проблемной истории. Но это достаточно плоское определение того, что является историей. Что Дэвид пытался до нас донести тем весенним днём 2014 года и каждый день после этого — каждому, кто услышит — что нам, как нарративным терапевтам, необходимо понимать, какие элементы делают историю хорошей. Ведь, конечно же, нас не должна устраивать какая попало история. Когда мы сталкиваемся с властными проблемными историями, историями, которые как будто не собираются уступать, историями, исполненными мрака, грязи и вреда, подойдёт не любая история. Нам нужно в наших разговорах с другими научиться рассказывать истории, которые способны противостоять повреждённым и покорёженным идентичностям, истории, выходящие за пределы имеющегося в запасе сюжета; истории, у которых есть литературная ценность; истории, исполненные драмы; истории, исполненные неизвестности и неожиданности; истории, исполненные напряжения; истории, исполненные воображением и красотой.
Дэвид настаивает на том, чтобы мы учились искусству делать больше для жизней обращающихся к нам людей. Когда о нарративной терапии говорят как об имеющей традицию, то это о том, что она способствует появлению новых идей и практик с опорой на нетрадиционные труды за пределами самой нарративной практики. Поэтому последние несколько лет мы провели, читая всё, что могли найти (точнее, всё, на что Дэвид натыкался в попадающихся ему библиотеках) о характеристиках и эстетике хороших историй. Особенно помогли нам труды Шерил Маттингли.
Дэвид настаивает на том, чтобы мы учились искусству делать больше для жизней обращающихся к нам людей. Когда о нарративной терапии говорят как об имеющей традицию, то это о том, что она способствует появлению новых идей и практик с опорой на нетрадиционные труды за пределами самой нарративной практики. Поэтому последние несколько лет мы провели, читая всё, что могли найти (точнее, всё, на что Дэвид натыкался в попадающихся ему библиотеках) о характеристиках и эстетике хороших историй. Особенно помогли нам труды Шерил Маттингли.
Что делает историю хорошей историей?
Хотя во многих смыслах мы всё ещё новички в исследованиях литературных теорий, относящихся к хорошему сторителлингу, короткое погружение в труды таких авторов, как Шерил Маттингли, познакомило нас с четырьмя элементами хорошего сторителлинга, которые кажутся нам релевантными для нашей работы. Хорошие истории, истории с литературной ценностью — это истории, исполненные драмы; истории, исполненные неизвестности и неожиданности; истории, исполненные напряжения; истории, исполненные воображения и красоты.
Хотя во многих смыслах мы всё ещё новички в исследованиях литературных теорий, относящихся к хорошему сторителлингу, короткое погружение в труды таких авторов, как Шерил Маттингли, познакомило нас с четырьмя элементами хорошего сторителлинга, которые кажутся нам релевантными для нашей работы. Хорошие истории, истории с литературной ценностью — это истории, исполненные драмы; истории, исполненные неизвестности и неожиданности; истории, исполненные напряжения; истории, исполненные воображения и красоты.
Каждый из этих элементов взаимодействует с остальными, позволяя развернуться конкретной нарративной сюжетной линии и в то же время показывая связи с прошлым и настоящим таким образом, что у истории появляется, как мог бы сказать Гирц (1986) «доступная для восприятия форма» (p. 373), субстанция; или, словами одного из последних соисследователей IWP, у истории появляется «приобретение». Мы подумали, что вместо детального обсуждения каждого из четырёх элементов хорошей истории, будет хорошо поделиться с читателями некоторыми цитатами из наших исследований — теми, что стали особенно значимыми в наших стараниях узнать, как рассказывать в своей работе убедительные истории.
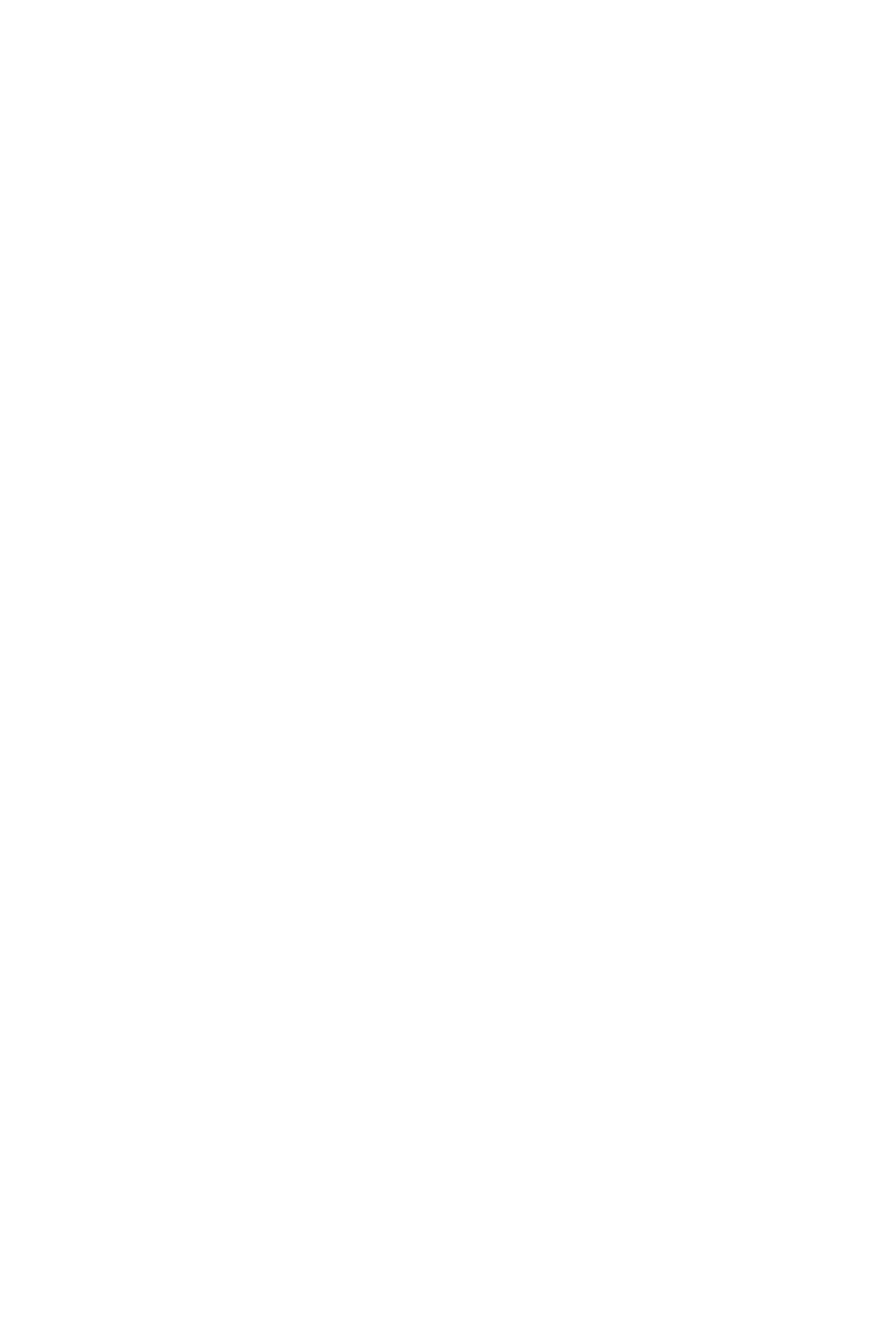
Истории, исполненные драмы
Прежде чем поделиться цитатами о необходимости драмы в хорошем сторителлинге, я чувствую стремление рассказать о незабываемом эпизоде, благодаря которому для меня стала окончательно ясна необходимость драмы.
Я хорошо помню, как во время подготовки к первому интервью IWP отправил на проверку Дэвиду Эпстону свою первую расшифровку. Мне казалось, что я провёл достаточно хорошее нарративное интервью — и даже достаточно хорошее, чтобы отправить его Дэвиду. По крайней мере, так я считал, пока не собрался нажать на кнопку «отправить». «Чёрт возьми! — Подумал я. — Ты же собираешься отправить свою работу Дэвиду Эпстону. Ты уверен, что хочешь сделать это?» Несмотря на растущий хор сомнений, я всё же решился; я не мог упустить возможность работать под менторством Дэвида Эпстона. Я отложил сомнения и тревоги в сторону, думая, что до ответа Дэвида пройдёт несколько дней. «В конце концов, он занят». К моему огромному удивлению, уже через два часа на экране компьютера появилось ответное письмо.
Я хорошо помню, как во время подготовки к первому интервью IWP отправил на проверку Дэвиду Эпстону свою первую расшифровку. Мне казалось, что я провёл достаточно хорошее нарративное интервью — и даже достаточно хорошее, чтобы отправить его Дэвиду. По крайней мере, так я считал, пока не собрался нажать на кнопку «отправить». «Чёрт возьми! — Подумал я. — Ты же собираешься отправить свою работу Дэвиду Эпстону. Ты уверен, что хочешь сделать это?» Несмотря на растущий хор сомнений, я всё же решился; я не мог упустить возможность работать под менторством Дэвида Эпстона. Я отложил сомнения и тревоги в сторону, думая, что до ответа Дэвида пройдёт несколько дней. «В конце концов, он занят». К моему огромному удивлению, уже через два часа на экране компьютера появилось ответное письмо.
Я открыл его в смешанных чувствах тревоги и предвосхищения. «Что он думает о моём интервью? Сделал ли я достаточно, чтобы он захотел продолжать наш проект?» Хотя Дэвиду хватило доброты похвалить отдельные моменты, по всем его комментариям красной линией проходила одна очень громкая тема. «БОЛЬШЕ ДРАМЫ, ТОМ!!!» — капслоком (как знают все, кому выпало удовольствие общаться с Дэвидом через электронную почту). Я не помню, сколько раз звучала его мольба о большей драме, но послание было понятным.
«БОЛЬШЕ ДРАМЫ, ТОМ!!!»
Первым моим ответом на подначивания Дэвида было «Но я не драматный человек. Я тихий и говорю мягким и вежливым тоном». Стоит признать, что поначалу я чувствовал разочарование и гадал, есть ли во мне то, что позволит выполнить эту работу в соответствии с надеждами Дэвида. На короткий миг я даже подумал сдаться. К счастью, я быстро понял, что Дэвид имел в виду драму не в личностном, но в литературном смысле слова; драму, которая предполагает разворачивание драматических сцен и образов, позволяющих увидеть человека как морального агента, активно формирующего события своей жизни перед лицом возникающих обстоятельств. С этим осознанием ко мне пришло решение изучить вопросы Дэвида и увидеть, как он в своей работе пробуждает драму. Я также попросил у него рекомендаций для чтения по теме нарратива, драмы и хорошего сторителлинга. Его ответ я никогда не забуду. «Пожалуйста, прочитай Шерил Маттингли «Healing Dramas Clinical Plots». Если бы я оказался на необитаемом острове и мне нужно было взять с собой только одну книгу, это была бы она. Из этой книги больше, чем из любой другой, я узнал, что значит быть нарративным терапевтом».
Когда Дэвид Эпстон — человек, прочитавший бесчисленное количество книг и посетивший по всему миру едва ли не больше библиотек, чем кто угодно другой — выбирает одну книгу, стоит прислушаться. В рекомендации Дэвида особенно интересно то, что Шерил Маттингли не является нарративным терапевтом. Она антрополог[2], использующий нарративную теорию в качестве направляющей метафоры для своих исследований родителей детей со смертельными болезнями. Однако, после прочтения «Healing Dramas» и двух других книг Маттингли, «The Paradox of Hope» и «Moral Laboratories», я соглашусь с Дэвидом: от Маттингли я узнал о том, как быть нарративным терапевтом, больше, чем от любого другого автора.
Так что же такого притягательного мы находим в словах Маттингли об отношениях между нарративом и драмой?
Для начала стоит заметить, что Маттингли занимает довольно любопытную позицию по отношению к взаимосвязанности и взаимозаменяемости понятий нарратива и драмы. По Маттингли, хороший нарратив является хорошей драмой — и наоборот.
Так что же такого притягательного мы находим в словах Маттингли об отношениях между нарративом и драмой?
Для начала стоит заметить, что Маттингли занимает довольно любопытную позицию по отношению к взаимосвязанности и взаимозаменяемости понятий нарратива и драмы. По Маттингли, хороший нарратив является хорошей драмой — и наоборот.
Примечание 2
Достаточно очевидно, что в предлагаемых мною рамках драматической традиции и нарративной феноменологии термин нарратив используется не в его обычном понимании...Сторителлинг и восприятие культурных текстов представляет лишь малую часть того, как нарратив пронизывает практические действия и живые переживания. И отчасти я так тесно связываю его с «драмой», чтобы подчеркнуть это расширение «нарратива». Опираясь на множество дисциплин, я использую тесно взаимосвязанные термины драма и нарратив как практически взаимозаменяемые (Mattingly, 2010, p.44)
Не забегая вперёд, думаю, нам нужно определиться, что означает слово «драма». Оно происходит буквально от «действия» или «действовать». Обычно в литературе драмой называют «композицию в стихах или прозе, выстроенную таким образом, чтобы показать жизнь персонажа или рассказать посредством поступков и диалогов историю, обычно включающую в себя конфликты и эмоции; как правило, предназначена для исполнения в театре» (Meriam-Webster’s Dictionary, 2018). Слово драма также относится к «любой ситуации или серии событий, в которых есть живые, сталкивающиеся, эмоциональные или впечатляющие интересы или результаты» (Meriam-Webster’s Dictionary, 2018). В этом смысле драма особенно хорошо подходит для задач нарративной терапии, поскольку её выразительная цель — в ярких деталях показывать жизнь персонажа через конфликты и опасности, с которыми он сталкивается, и предпринимаемые в ответ на них действия, часто имеющие впечатляющие или удивительные результаты.
Маттингли напоминает нам, что в качестве драмы нарратив является чем-то гораздо большим, чем просто хронология, связь событий во времени. Хронология «структурирована в цепочку. Она пересказывает события в таком усечённом виде, что скорее затемняет, чем подсвечивает то, что является основным в том, как действия связаны с мотивами и последствиями» (Mattingly, 2010, p.104). Для Маттингли нарративы представляют собой «драматическую трансформацию живого опыта» (Mattingly, 1998, p.34) и в своей драматической форме «приводят моральные аргументы» (Mattingly, 2010, p.104) для действий перед лицом сложностей.
Для прояснения того, что она имеет в виду, говоря о нарративе как драме, Маттингли часто использует термин «поэтический нарратив». Маттингли уточняет, что её интересует не любой вид нарратива, но тот, который обитает в мире поэтического и искусства. По Маттингли:
Для прояснения того, что она имеет в виду, говоря о нарративе как драме, Маттингли часто использует термин «поэтический нарратив». Маттингли уточняет, что её интересует не любой вид нарратива, но тот, который обитает в мире поэтического и искусства. По Маттингли:
поэтический нарратив показывает действие и переживание через прояснение и сгущение, показывая причинные связи между мотивом, деянием и последствиями и создавая возможность для морального прочтения событий. Целью нарратива является не просто рассказать, что произошло, но позволить посмотреть на прошлые события с моральной точки зрения (Mattingly, 1998, p. 29).
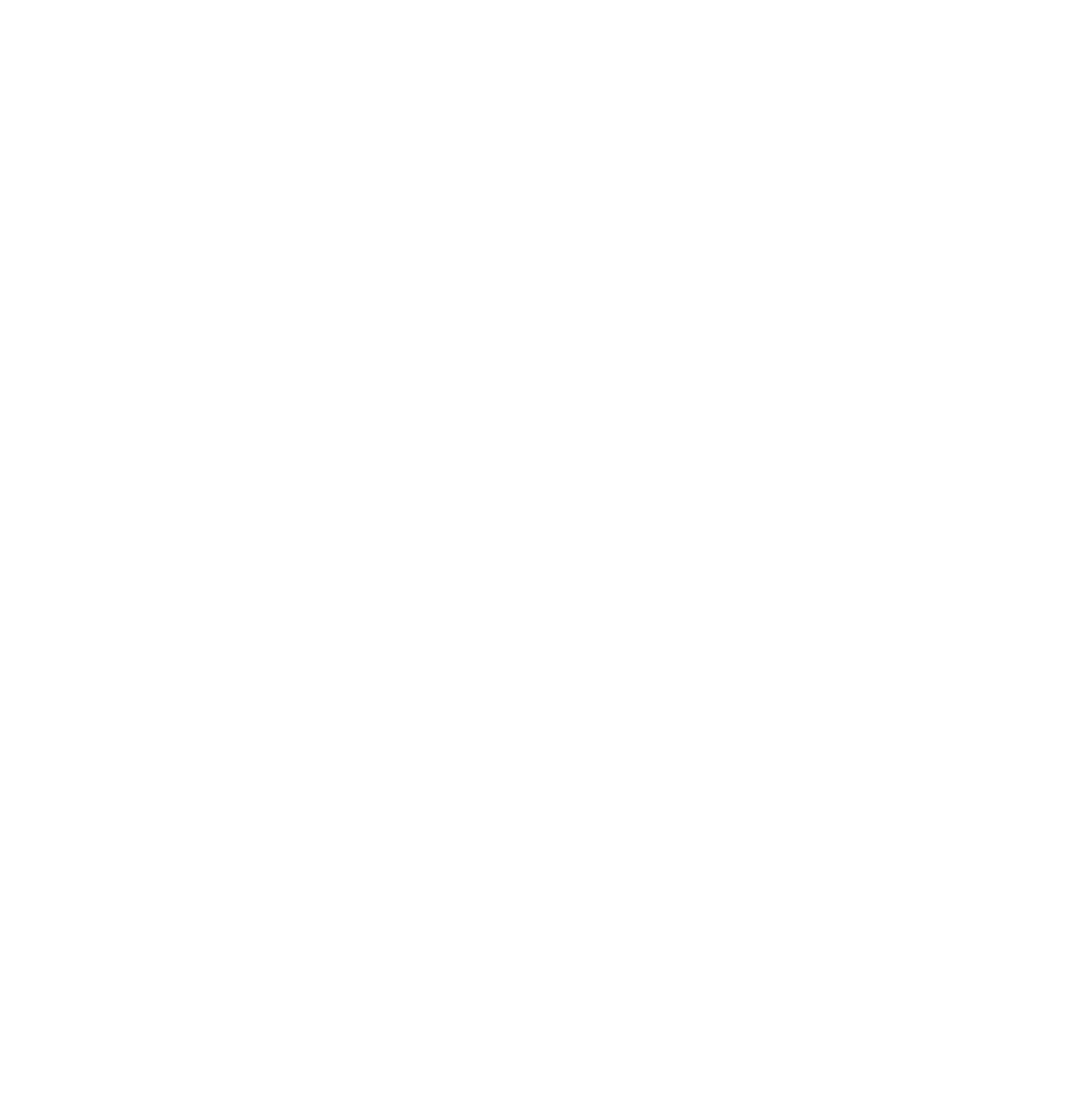
Используя термины «моральное прочтение» и «моральная точка зрения», Маттингли не взывает к нормализующему или «сверху-вниз» суждению о морали из какого-то внешнего источника власти, но скорее говорит о о том, что репрезентация жизни человека через драматический/поэтический нарратив позволяет ему соприкоснуться с собственной моралью и прочитать, как в течение всей жизни — и особенно перед лицом серьёзнейших опасностей — его направляли собственные намерения, цели и желание к жизни.
Поэтические нарративы (хорошие истории) обладают способностью находить, высвечивать, фиксировать и наполнять драматизмом моменты, которые в противном случае могут быть поняты как обычные или ординарные. Момент становится драматическим благодаря изображению его в ярких деталях, усилению эмоциональной значимости и вниманию к тому, что было на кону.
События приобретают свою осмысленную форму (становятся живыми переживаниями) для действующего лица в зависимости того, что они привносят и что оказывается на кону (Mattingly, 2010, p.48)
Драма в практике
Ранее я рассказал историю моего первого интервью и воодушевляющую настойчивость Дэвида в насыщении моих вопросов БОЛЬШЕЙ ДРАМОЙ! Мы подумали, что может быть интересно использовать несколько моих реальных «слегка драматичных» вопросов из первой попытки провести IWP интервью и предложить альтернативные вопросы, старающиеся преобразовать их в более драматические.
Контекст
Представленные здесь вопросы выросли из первого действия интервью, в котором Меган описывала свою клиентку Дженнифер. Дженнифер страдала от последствий ужасных мигреней и другой физической боли с 6 лет. И в этом возрасте, столкнувшись с неверием остальных в её жалобы на физическое здоровье, она нашла свои уникальные способы справляться с болью. Девочка придумывала воображаемые миры, в которые могла сбежать; миры, в которых она была врачом для самых разных животных и использовала выдуманные заклинания и магические формулы, чтобы исцелить их от боли.
Ранее я рассказал историю моего первого интервью и воодушевляющую настойчивость Дэвида в насыщении моих вопросов БОЛЬШЕЙ ДРАМОЙ! Мы подумали, что может быть интересно использовать несколько моих реальных «слегка драматичных» вопросов из первой попытки провести IWP интервью и предложить альтернативные вопросы, старающиеся преобразовать их в более драматические.
Контекст
Представленные здесь вопросы выросли из первого действия интервью, в котором Меган описывала свою клиентку Дженнифер. Дженнифер страдала от последствий ужасных мигреней и другой физической боли с 6 лет. И в этом возрасте, столкнувшись с неверием остальных в её жалобы на физическое здоровье, она нашла свои уникальные способы справляться с болью. Девочка придумывала воображаемые миры, в которые могла сбежать; миры, в которых она была врачом для самых разных животных и использовала выдуманные заклинания и магические формулы, чтобы исцелить их от боли.
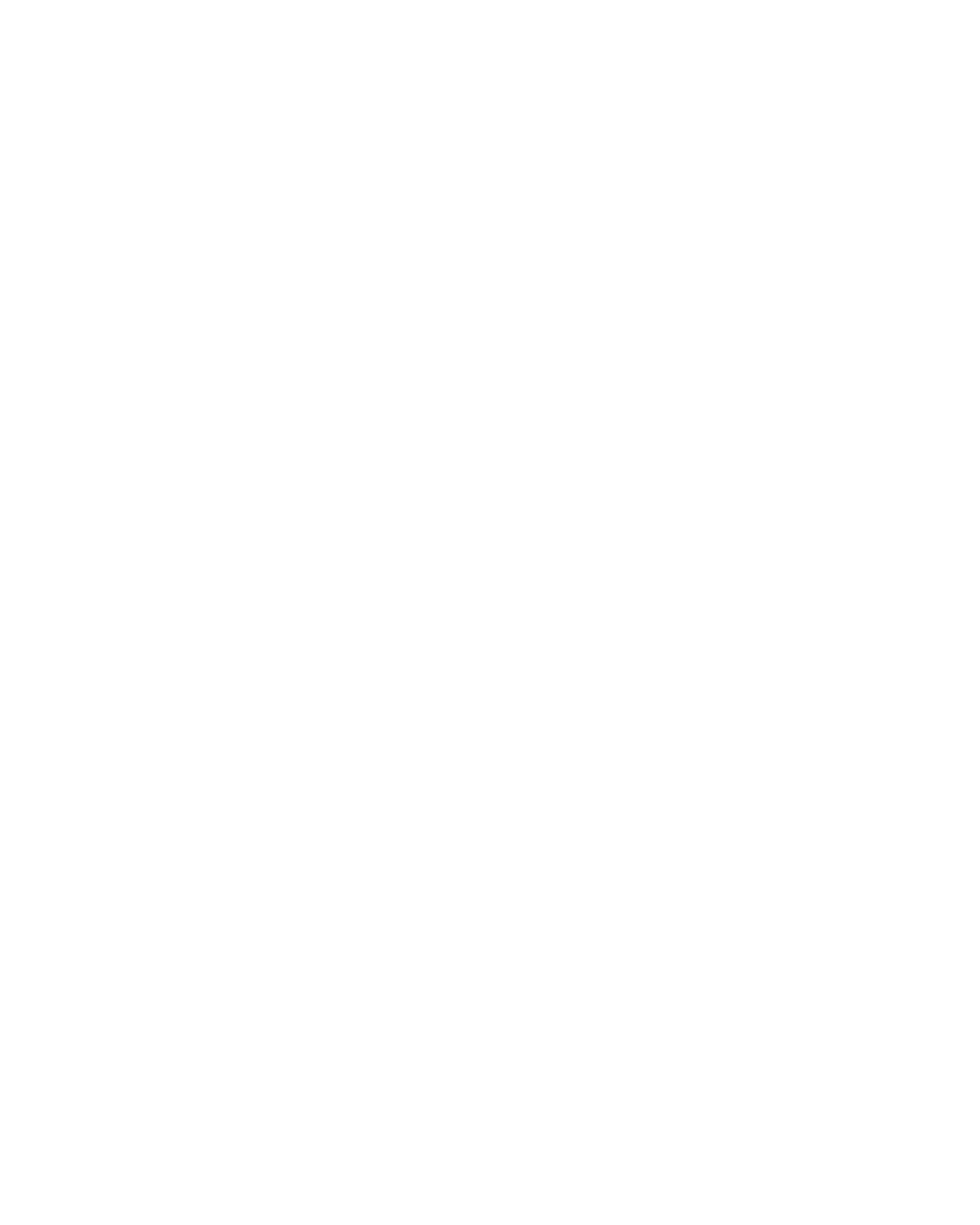
Дома к её физической боли относились как к притворству и интерпретировали как попытку привлечь внимание и избежать посещения школы. В возрасте 12 лет она решила, что «устала» от жизни с последствиями болезни и предприняла «радикальные меры», чтобы найти некоторое облегчение от боли. Эти меры включали в себя позицию защитника собственного опыта в отношениях с родителями и докторами. В результате усилий по самозащите Дженнифер смогла получить необходимую эмоциональную и врачебную поддержку и во многом высвободиться от влияния боли. К сожалению, вскоре после этого вместе с буллингом в школе и возобновлением контроля со стороны родителей в её жизнь вошла тревога. Коктейль из буллинга и контроля привели к тому, что Дженнифер отстранилась от друзей, начала заниматься самоповреждением и в конце концов совершила несколько попыток покончить с жизнью. К моменту первого действия интервью Меган и Дженнифер встречались уже шесть месяцев, и девушка сделала серьёзные шаги по высвобождению своей жизни из хватки тревоги.
Изначальный вопрос №1
Следующий вопрос возник как реакция на слова Меган в роли Дженнифер, которая как будто обозначила неявные связи между её победами в отношениях с тревогой и тем, как «зрело и серьёзно» она справилась со своими физическими страданиями в 12 лет.
Пересмотренный вопрос №1
Глядя на расшифровку сейчас, я чётко вижу, почему Дэвид номинировал этот вопрос в кандидаты на БОЛЬШЕ ДРАМЫ. В первую очередь, мой вопрос очень мало помогал пролить свет на достаточно значимый контекст, когда 12летняя девушка каким-то образом смогла стать своим защитником перед лицом устойчивого игнорирования реальности её боли родителями и учителями. Позвольте предложить пересмотренную последовательность вопросов, которые могут добавить немного драмы, столь необходимой, чтобы подсветить значимость текущих усилий Дженнифер и разместить их в давней истории весьма заметных действий на своей стороне.
Ладно, здесь меня немножко занесло. Но, надеюсь, вы видите, как эти вопросы наслаиваются друг на друга, используя насыщенные образы из её жизненной истории для усиления и придания драматичности действиям 12летней Дженнифер и распространении истории этих действий назад в прошлое.
Изначальный вопрос №1
Следующий вопрос возник как реакция на слова Меган в роли Дженнифер, которая как будто обозначила неявные связи между её победами в отношениях с тревогой и тем, как «зрело и серьёзно» она справилась со своими физическими страданиями в 12 лет.
- Можешь рассказать мне немного о том, как история усталости от проблем со здоровьем помогла тебе изменить отношения с тревогой?
Пересмотренный вопрос №1
Глядя на расшифровку сейчас, я чётко вижу, почему Дэвид номинировал этот вопрос в кандидаты на БОЛЬШЕ ДРАМЫ. В первую очередь, мой вопрос очень мало помогал пролить свет на достаточно значимый контекст, когда 12летняя девушка каким-то образом смогла стать своим защитником перед лицом устойчивого игнорирования реальности её боли родителями и учителями. Позвольте предложить пересмотренную последовательность вопросов, которые могут добавить немного драмы, столь необходимой, чтобы подсветить значимость текущих усилий Дженнифер и разместить их в давней истории весьма заметных действий на своей стороне.
- Дженнифер, когда я задавал тебе вопрос «Как тебе удалось высвободить свою жизнь от влияния тревоги в сроки, которые тебе кажутся «меньше всех, что я могла ожидать», ты задумалась, находится ли это в какой-то связи с тем, что ты научилась быть собственной защитницей, когда тебе было всего 12 лет. Если бы мы на мгновение оглянулись назад на твои тогдашние усилия, то как тебе кажется, чего стоило 12летней девушке держаться своего опыта и убеждённости, даже перед лицом 6летнего игнорирования со стороны окружавших тебя взрослых?
- Эта «моральная сила» твоей убеждённости появилась сама по себе, когда тебе было 12, или у неё может быть более долгая история?
- Если я правильно помню, Дженнифер, 6летняя ты создавала воображаемые миры, где тебе каким-то образом удавалось сбежать из тюрьмы твоей физической боли, и в этих мирах ты была целителем, который использовал специальные заклинания и магические формулы, чтобы облегчить страдания животных. Как ты думаешь, возможно ли, что воображаемые 6летней тобой миры каким-то образом стали тренировочной площадкой для твоей моральной силы?
- И возможно ли, что заклинания и магические формулы, которые ты предлагала друзьям-животным в своём нежном 6летнем возрасте, каким-то образом пришли к тебе на помощь, когда ты больше всего нуждалась в них, так что ты смогла стать для самой себя целителем, каким была для своих друзей-животных?
Ладно, здесь меня немножко занесло. Но, надеюсь, вы видите, как эти вопросы наслаиваются друг на друга, используя насыщенные образы из её жизненной истории для усиления и придания драматичности действиям 12летней Дженнифер и распространении истории этих действий назад в прошлое.
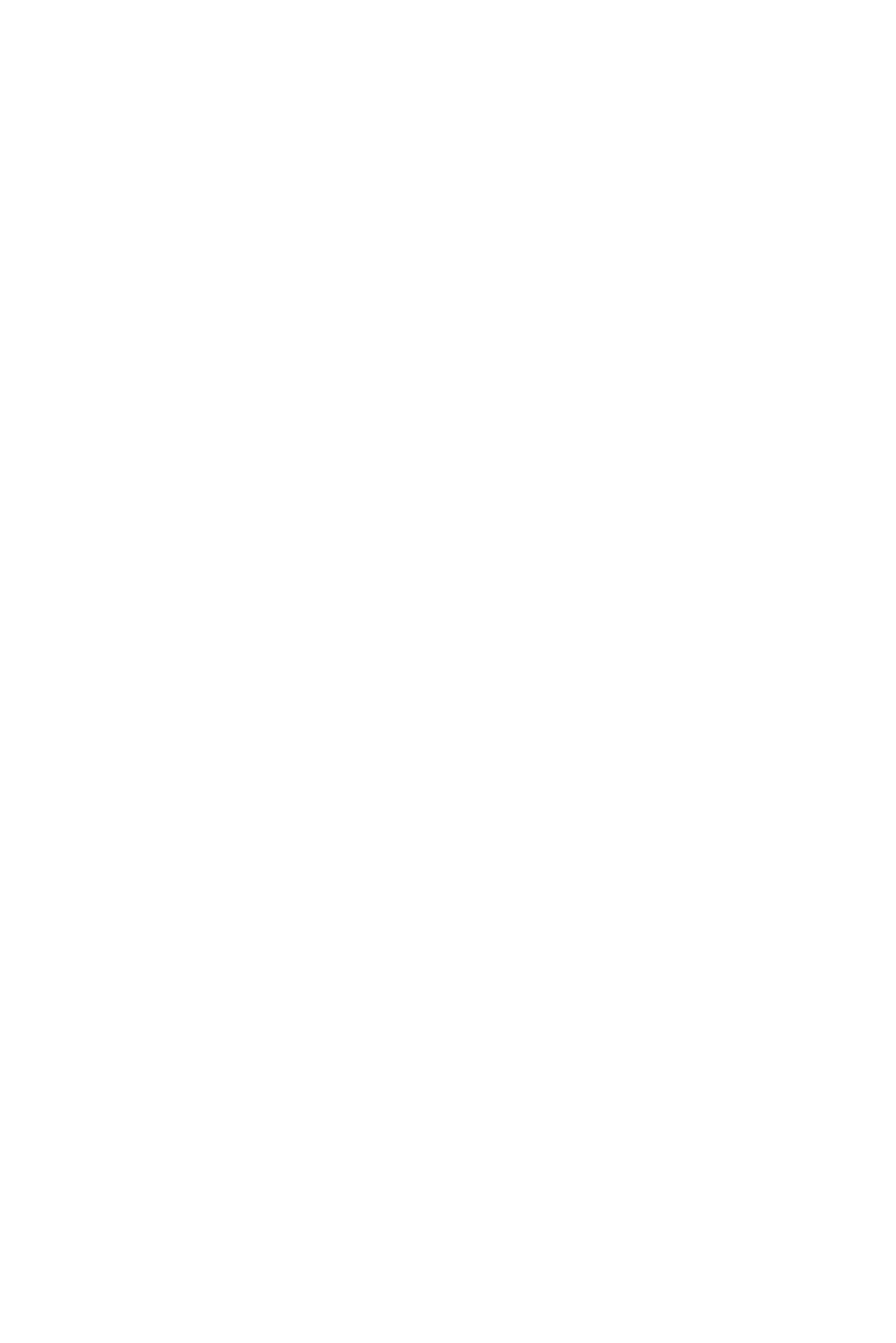
Истории, исполненные неизвестности и неожиданности
Другим важным качеством хорошей истории/поэтического нарратива является чувство захватывающей неизвестности. Каждый, кто читал хороший роман, знает это чувство, когда ты замираешь на краешке стула и гадаешь, что же будет дальше. Подбодрённый Дэвидом, я постарался увидеть мою работу, как нацеленную на чтение/написание хорошего романа. Отображает ли история персонажа, который предпринимает действия и способен удивить? Я обрёл вдохновение в идее многомерных и плоских персонажей Э.М. Форстер.
Здесь нам помогает введённое Э. М. Форстер в литературной теории разделение между «плоскими» персонажами и многомерными. Э.М. Форстер говорит нам, что «плоские персонажи в своём чистом виде выстроены вокруг одномерной характеристики. Как только они определены, плоские персонажи больше не удивляют, не поражают нас. Они делают то, чего от них ждут — не больше и не меньше. Многомерные персонажи, наоборот, обладают множеством качеств, скрытой двойственностью и явной противоречивостью. Что важнее, они способны к изменениям (цитируется по Mattingly, 2010, p. 108).
Здесь нам помогает введённое Э. М. Форстер в литературной теории разделение между «плоскими» персонажами и многомерными. Э.М. Форстер говорит нам, что «плоские персонажи в своём чистом виде выстроены вокруг одномерной характеристики. Как только они определены, плоские персонажи больше не удивляют, не поражают нас. Они делают то, чего от них ждут — не больше и не меньше. Многомерные персонажи, наоборот, обладают множеством качеств, скрытой двойственностью и явной противоречивостью. Что важнее, они способны к изменениям (цитируется по Mattingly, 2010, p. 108).
Я опирался на идею Форстер о многомерных персонажах в своих размышлениях о том, как я рассказываю историю героя, находящегося в центре разворачивающейся драмы. Если в моих вопросах не хватает драматичности, неизвестности и неожиданности, если они оказывают плоскими, то с большой вероятностью и герой истории окажется плоским, он не сможет захватить воображение человека так, чтобы, словами Майкла, заворожить его.
Ещё один экскурс в словарные статьи. Пока мы говорим на тему персонажей, хочу привлечь ваше внимание к термину, который Дэвид хотел включить в новый словарь нарративной терапии. Вы можете спросить себя: «Есть новый словарь нарративной терапии? Но зачем? Почему я об этом не знаю?» Последние пять лет, что Дэвид путешествовал по миру, он собирал новые слова, которые бы позволили дополнить и переосмыслить привычные нам термины нарративной практики. Но у вас может возникнуть вопрос — зачем? Зачем Дэвид хочет найти замену терминам для описания нарративной терапии, которые, на минуточку, они же с Майклом и создали? Как рассказывает эту историю Дэвид, у слов — как и у продуктов (ну разве что за исключением Twinkies) — есть срок годности. Согласно лексикографу Kory Sampler (2018), срок годности большинства слов составляет порядка 10-20 лет. Как только слова хранятся слишком долго, они сливаются с фоном; становятся частью повседневного пейзажа и теряют свою способность вдохновлять. И если вслед за Дэвидом датой начала нарративной терапии считать 1985 год, то срок годности её словаря уже истёк. Дэвид ни в коем разе не призывает к тотальному сжиганию лексикона нарративной терапии; но он продвигает идею появления новых слов, терминов и фраз, которые позволят возродить, оживить, переосмыслить дух нарративной практики (Epston, 2019).
Возвращаясь к теме персонажей... Одним из терминов, который Дэвид номинировал для своего нового словаря нарративной терапии, был «моральный облик». Когда мы размышляем о хороших историях в литературе, то как читатели чаще всего слышим вопрос: «Какова мораль этой истории?» Приглашая нас подумать о том, что означает жить достойно, каждая история преследует намерение передать нам то или иное благо или мораль. Поскольку мы заимствуем идею хорошей истории для терапевтических целей, вопрос формулируется уже так: «Какая мораль персонажа всё это время была движущей силой истории?» Вы можете думать о моральном облике человека как о желании «вопреки всему», о духе, что движет его усилиями и трудами на благо своей жизни. Таким образом, это побуждает нас задавать следующие вопросы:
- Учитывая наши знания о всём том, с чем человеку пришлось столкнуться, и всё, к чему он продолжал вопреки этому стремиться, кто этот стоящий перед нами человек?
- Что есть в этом человеке такого, что позволило ему встретиться лицом к лицу с опасностями и, несмотря ни на что, продолжать жить свою жизнь?
- Какое слово, образ или фраза могут передать мораль или дух этого персонажа, сделавший всё это возможным?
Для завершения этого экскурса критически важно упомянуть, что истории, которые мы рассказываем в нашей работе, показывают моральный облик человека в полной мере и во всей его полноте. И неизвестность и неожиданность приобретают значение, когда дело доходит до демонстрации человека как многомерного персонажа в его жизненной истории. Маттингли утверждает, что рассказываемые нами истории должны размещаться в том, что она называет «нарративным временем»; во времени, которое «ознаменовано неизвестностью и неожиданностью» (Mattingly, 2010, 85).
В конце концов, в драматические времена, появляется — или, по крайней мере, кажется возможной — та или иная трансформация. Это и делает драму неожиданной. Когда желания сильны и есть некоторый шанс их реализации, то даже если нависает огромная проблема, участники готовы рискнуть. Из их рискованных действий может возникнуть трансформация, и времена становятся непредсказуемыми (Mattingly, 2010, p.136).
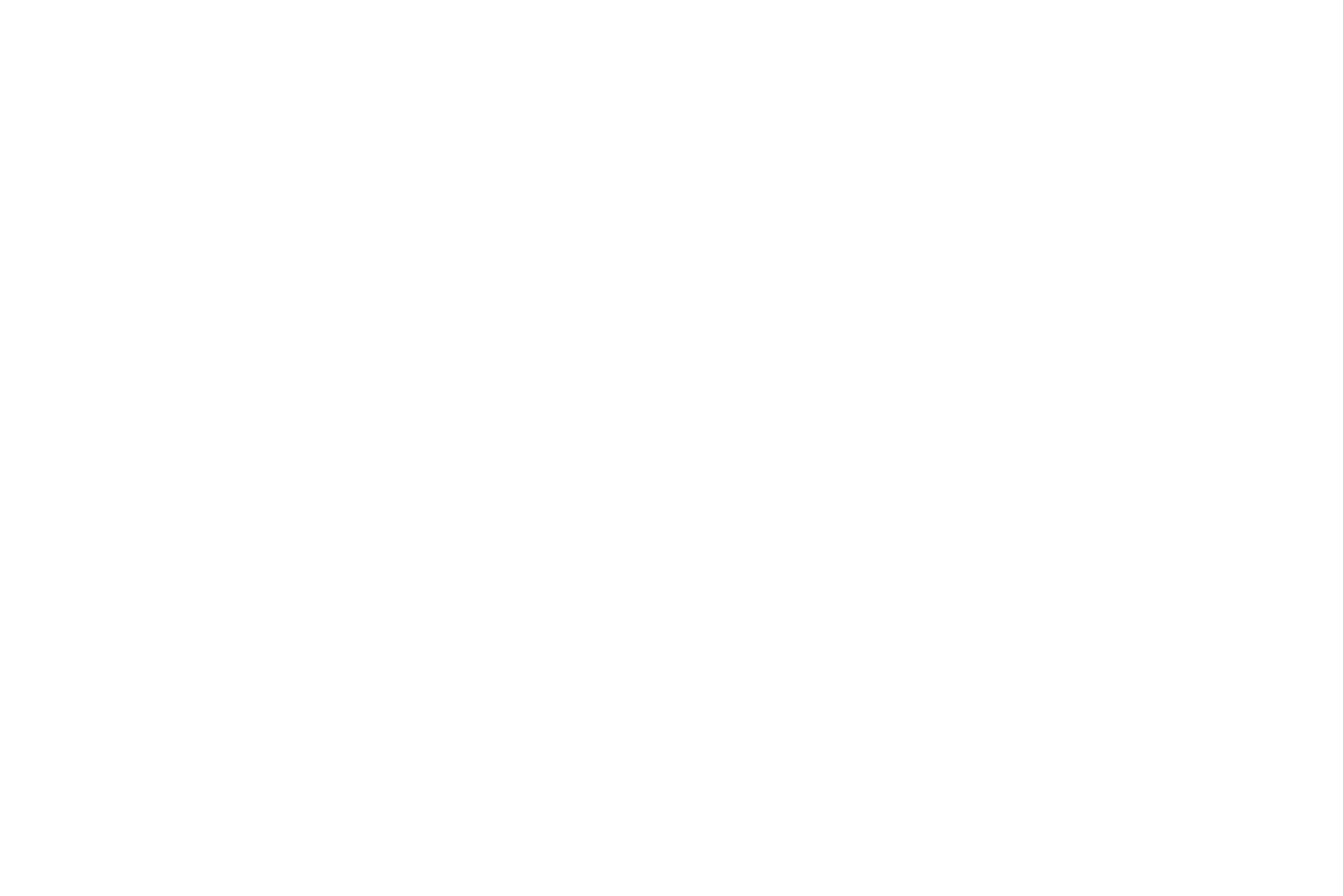
По Маттингли, нарративное время не совпадает с хронологическим взглядом на него, который часто является базой для большинства нарративных теоретиков. Маттингли (1988) утверждает, что, в отличие от времени истории, которое стремится показать события как связанные друг с другом в хронологической последовательности, нарративное время стремится исказить время, «продлевая несколько драгоценных моментов, проскакивая месяц, целые годы, намекая на конец в самом начале, беспечно меняя сцены и времена и последовательности с тем, чтобы развернуть сюжет» (p.35). Продолжая развивать различие нарративного и хронологического времени в сторителлинге, Маттингли пишет:
Жизнь измеряется не только минутами или часами, но интенсивностью, так что когда мы смотрим на прошлое, оно не простирается равномерно назад, но громоздится несколькими заметными вершинами; а когда мы смотрим в будущее, то иногда оно выглядит как стена, иногда как облако или солнце, но никогда не как хронологическая диаграмма (p. 45)
Предлагаемое Маттингли разделение между временем истории и временем нарратива помогло нам сместить мышление от простого рассказывания истории к рассказыванию поэтических нарративов, передающих «смысл через пробуждение, образ, тайну умолчаний, разворачивание событий в насыщенном неизвестностью времени, где человек гадает, что же случится дальше» (p. 8). Вот это качество хорошей истории «что же случится дальше», «замереть на краешке» — это то, что хорошо знакомо любому читателю хорошего романа. Это то, что не даёт нам заснуть в ночи, поскольку мы просто не можем отложить книгу. Нам нужно перевернуть страницу. Мы все знаем это из своего читательского опыта. Вопрос к нам как к нарративным терапевтам в следующем: «Как мы можем так рассказать историю, чтобы её слушатель, клиент, пережил это исполненное напряжённой неизвестности «замирание на краешке стула», которое побудит его спросить не просто «что же случится дальше», но более важное «что буду делать дальше я?»
И здесь Маттингли снова делится с нами важной мудростью, когда полагает, что неизвестность и неожиданность в историях о человеческих жизнях взывают к «вопросам, которые мы задаём, затаив дыхание...а что дальше? Что потом? А потом? Озадаченность... В этой озадаченности аудитория разделяет с персонажами позицию открытости простирающемуся перед ними будущему — полному неизвестности и возможностей придать ему форму» (Mattingly, 1998, p.38). Поскольку в случае практики внутренних свидетелей нашим намерением является рассказывание истории от лица другого человека с этим человеком в качестве свидетеля, аудитория и персонаж оказываются одним лицом, открытым к собственному будущему во всех его потенциально очерчиваемых возможностях.
Вам, читатель, может быть очевидно, что невозможно отделить драму от неизвестности, а неизвестность от драмы. Драма требует неизвестности и неизвестность требует драмы. А ключевым ингредиентом в этом является рождение желания. Мы снова обращаемся к Маттингли (Mattingly, 1998):
Терапевтический (нарративный) сюжет соблазняет, только когда он появляется как эпизод разворачивающейся жизненной истории, давая надежду на жизнь, которую ещё предстоит прожить...Терапевтический (нарративный) сюжет возникает в своего рода пропасти, пространстве желания, созданного дистанцией между тем, где протагонист находится, и куда он хочет переместиться. Возможность нарратива не может находиться в лёгком доступе. Нарративы включают в себя противостояние обстоятельствам, принятие рисков, столкновение с врагами, преодоление опасностей и тому подобное...Должно быть что-то, что стоит сделать. Другими словами, пропасть только тогда является входом в нарратив, когда есть неизвестность, касающаяся исхода, и это означает некоторую надежду на успех, некоторую причину решиться на риск. Конечно, надеяться вообще означает решиться на риск, открыться уязвимости желания (p.70).
Недавно я поделился этой цитатой с Дэвидом Эпстоном, и он ответил: «Это очень важно! Лучше, чем здесь, об этом никто не писал. Каждый изучающий нарративную терапию должен иметь распечатку с этими словами жирным шрифтом над своими столами/компьютерами»
Неизвестность и неожиданность на практике
Чтобы предложить вам пример добавления неизвестности и неожиданности в практику, вернёмся к моему первому IWP интервью с Меган в роли Дженнифер и ещё одному моему плоскому, лишённому драматичности — а теперь ещё и неизвестности — вопросу.
Изначальный вопрос №2
Следующий вопрос возник в ответ на комментарий Меган в роли Дженнифер о том, что она замечает своё желание «продолжать двигаться вперёд» в беседе и её растущее предвкушение «многих вещей, которые я всё ещё могу делать и проживать, которые теперь станут возможными».
Пересмотренный вопрос №2
Это достаточно частый вопрос, который я бы задал до знакомства с вопросами Дэвида и появляющимся словарём нарративной терапии. Я даже помню, что во время расшифровки и отправки интервью Дэвиду, конкретно этим вопросом я был достаточно доволен. Вы можете догадаться, что Дэвид номинировал его на БОЛЬШЕ ДРАМЫ или, в этом случае, неизвестности. Мой изначальный вопрос был направлен на поиск того, «что же будет дальше» в этой истории, и в нём точно не хватало неизвестности и неожиданности, или, как мог бы сказать Дэвид, «нарративного драйва». «Где драма? Неизвестность? Напряжение? Чувство начало, середины и конца?» (Mattingly, 1998, p.63). Позвольте мне снова предложить последовательность пересмотренных вопросов, которые способны пробудить чуть более сильные ощущения неизвестности, неожиданности и заинтересованности в том, что же ждёт нас впереди.
Надеюсь, эти пересмотренные вопросы являются улучшением моей первой попытки. Хотя решать вам, читатель. Вы можете заметить, что до первого пересмотренного вопроса я дал объёмное обобщение. Я делал это в надежде опереться на события прошлого и настоящего в создании истории растущего импульса; открытой истории, которая манит человека к жизни в ближайшем будущем; истории, которая побуждает к вопросу: «что же конкретно я предприму следующим?»
Чтобы предложить вам пример добавления неизвестности и неожиданности в практику, вернёмся к моему первому IWP интервью с Меган в роли Дженнифер и ещё одному моему плоскому, лишённому драматичности — а теперь ещё и неизвестности — вопросу.
Изначальный вопрос №2
Следующий вопрос возник в ответ на комментарий Меган в роли Дженнифер о том, что она замечает своё желание «продолжать двигаться вперёд» в беседе и её растущее предвкушение «многих вещей, которые я всё ещё могу делать и проживать, которые теперь станут возможными».
- Мы немного оглянулись назад, на историю твоей решительности и силы и способности быть человеком, который прибывает в пункт своего назначения с опережением графика и не возвращаясь. И когда ты всматриваешься в разворачивающуюся перед тобой жизнь, может быть, в грядущие год или два, как тебе кажется, что может прийти в неё благодаря твоей миссии смотреть вперёд и твоим навыкам и умениям не оглядываться назад и идти с опережением графика?
Пересмотренный вопрос №2
Это достаточно частый вопрос, который я бы задал до знакомства с вопросами Дэвида и появляющимся словарём нарративной терапии. Я даже помню, что во время расшифровки и отправки интервью Дэвиду, конкретно этим вопросом я был достаточно доволен. Вы можете догадаться, что Дэвид номинировал его на БОЛЬШЕ ДРАМЫ или, в этом случае, неизвестности. Мой изначальный вопрос был направлен на поиск того, «что же будет дальше» в этой истории, и в нём точно не хватало неизвестности и неожиданности, или, как мог бы сказать Дэвид, «нарративного драйва». «Где драма? Неизвестность? Напряжение? Чувство начало, середины и конца?» (Mattingly, 1998, p.63). Позвольте мне снова предложить последовательность пересмотренных вопросов, которые способны пробудить чуть более сильные ощущения неизвестности, неожиданности и заинтересованности в том, что же ждёт нас впереди.
- Дженнифер, в нашем сегодняшнем разговоре мы прочертили историю тебя как человека, который каким-то образом смог довериться своему знанию и мудрости в том, что лучше для его жизни и тела, даже перед лицом игнорирования со стороны родителей и экспертов. И не только это: в возрасте 12 лет ты стала собственным защитником здоровья и каким-то образом смогла убедить докторов прислушаться к себе. А теперь, в самые сложные времена, твоя моральная сила и убеждённость пришли к тебе на выручку и позволили вызволить твою жизнь из хватки тревожности с опережением любых сроков, какие только можно было представить. Может ли быть так, что твои усилия и действия от своего лица, которые мы можем проследить до 6летнего возраста, создали импульс, который теперь увлекает тебя вперёд так, как было невозможно предсказать?
- Когда ты стоишь сегодня, на границе завтрашнего дня, со всей этой энергией и импульсами твоей истории, как тебе кажется, какие сюрпризы ждут тебя и твою жизнь на горизонте?
Надеюсь, эти пересмотренные вопросы являются улучшением моей первой попытки. Хотя решать вам, читатель. Вы можете заметить, что до первого пересмотренного вопроса я дал объёмное обобщение. Я делал это в надежде опереться на события прошлого и настоящего в создании истории растущего импульса; открытой истории, которая манит человека к жизни в ближайшем будущем; истории, которая побуждает к вопросу: «что же конкретно я предприму следующим?»
Определение обстановки: действующие лица, место, детали и яркие особенности
«Нарративная форма основана на яркости самих событий, а также на их вкладе в сюжет» (Mattingly, 1998, p.85)
Несколько лет назад на воркшопе в Фарго, Северная Дакота, Дэвид Эпстон поделился расшифровкой беседы с молодой девушкой, которую изъяли из семьи из-за плохого обращения и пренебрежения со стороны родителей. Как часто происходит в таких обстоятельствах, у этой девушки были серьёзные сложности в обучении и её будущее выглядело мрачно. Каким-то образом во время пребывания в лечебном учреждении она нашла свой путь и обнаружила особенную любовь к работе с детьми. В возрасте 18 лет, когда Дэвид встретился с ней, она уже получила диплом, дающий право на обучение детей раннего возраста. Конечно, Дэвида это заинтересовало и он быстро вовлёк девушку в разговор об истории этого непредвиденного и произошедшему вопреки всему достижения. После того, как на историю её достижений был пролит свет, Дэвид попросил её в деталях вспомнить момент получения диплома.
Несколько лет назад на воркшопе в Фарго, Северная Дакота, Дэвид Эпстон поделился расшифровкой беседы с молодой девушкой, которую изъяли из семьи из-за плохого обращения и пренебрежения со стороны родителей. Как часто происходит в таких обстоятельствах, у этой девушки были серьёзные сложности в обучении и её будущее выглядело мрачно. Каким-то образом во время пребывания в лечебном учреждении она нашла свой путь и обнаружила особенную любовь к работе с детьми. В возрасте 18 лет, когда Дэвид встретился с ней, она уже получила диплом, дающий право на обучение детей раннего возраста. Конечно, Дэвида это заинтересовало и он быстро вовлёк девушку в разговор об истории этого непредвиденного и произошедшему вопреки всему достижения. После того, как на историю её достижений был пролит свет, Дэвид попросил её в деталях вспомнить момент получения диплома.
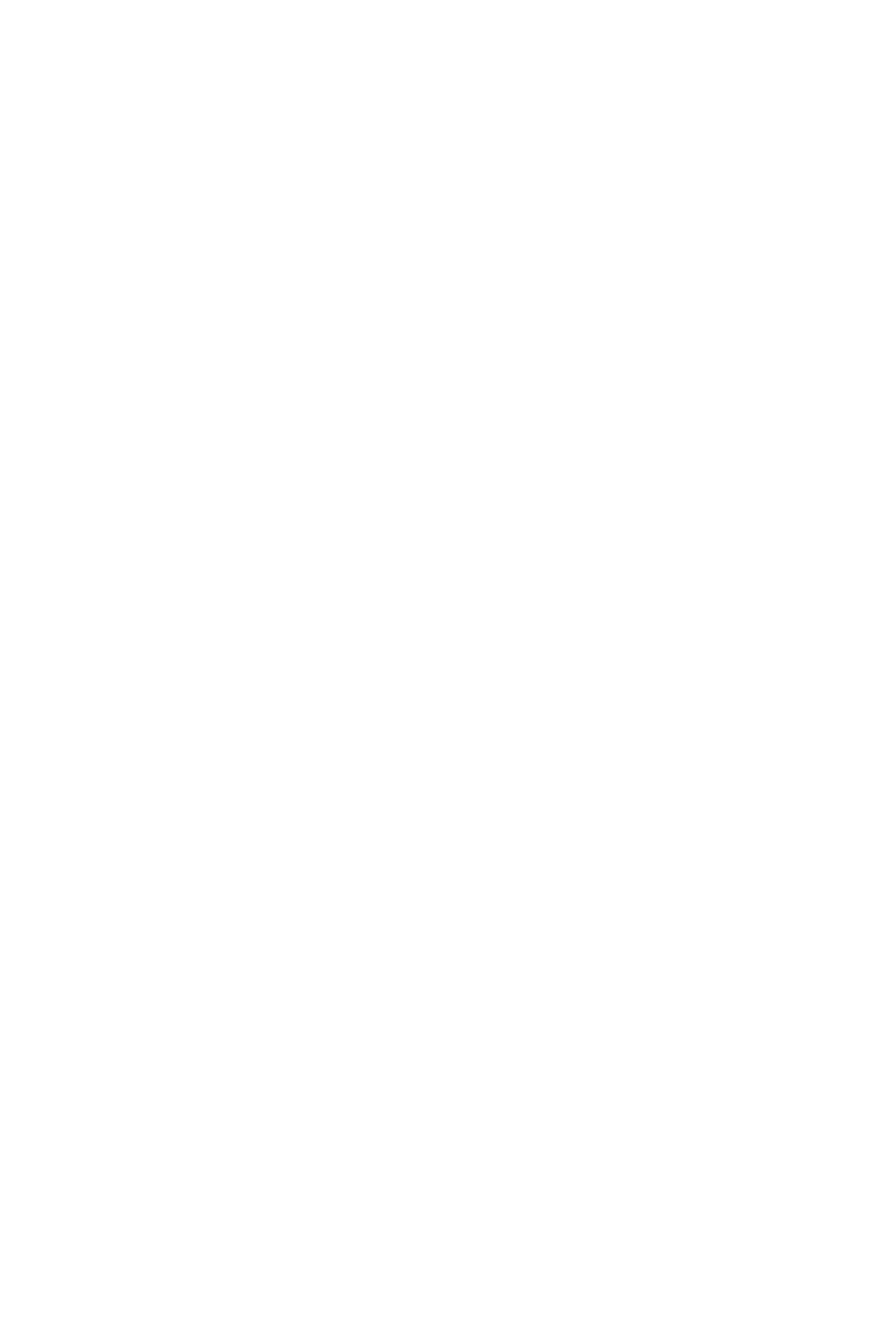
Он даже попросил её описать, как сертификат выглядел и ощущался в руках. А затем он спросил: «Это был солнечный день»? Немного озадаченный, один из слушателей уточнил: «Солнечный день? Какая разница, был ли это солнечный день?» И, как это часто бывало с тех пор, ответ Дэвида заставил меня замереть от удивления. «Нарратив был прекрасен в плане времени, но ужасен в плане места». Дэвид продолжил говорить о том, как важно восстановить происходившие события с такой детальностью, чтобы участвовавшие в них люди смогли увидеть себя действующими в них и перенести в настоящее ощущения того момента.
Нарратив был прекрасен в плане времени, но ужасен в плане места
Определение обстановки через насыщенное описание деталей и последующее оживление этой обстановки является критически важным для хорошего сторителлинга, поскольку создает «повышенное внимание к моменту» (Mattingly, 2010, p. 144). И начиная с этого повышенного внимания к моменту, «люди-актёры занимают центральное место на сцене» (Mattingly, 1998, p. 109). Маттингли продолжает:
Истории всегда показывают происходящее как действие, так что даже если кажется, что судьба предписывает конкретное направление сюжета, возникающие события всегда связываются с намеренными действиями персонажей (p.109).
И находясь в этом ориентированном на действие месте, человек в центре истории помещается в конкретные обстоятельства, которые показывают его как морального агента, активно формирующего события, разворачивающиеся во времени. И снова нам здесь помогает Маттингли (2010):
Персонажи сталкиваются с ситуациями, которые побуждают к действию; они играют ключевую роль в формировании событий, а их ответы на происходящее являются фокальным центром нарративного внимания. Персонажи показывают, кто они и какие у них мотивы посредством и через свои действия и страдания (p.179-180).
Учитывая значимость деталей в определении обстановки и пространства, нам может понадобиться научиться замедлять спешку в работе со смыслами клиентов. Если мы слишком быстро прыгнем к смыслам, например, задавая людям вопросы о стоящих за конкретными уникальными эпизодами ценностях и намерениях до того, как у нас появится достаточно насыщенных и ярких деталей для оживления обстановки, мы потеряем действие. А когда потеряно действие, теряется и возможность обнаружить укрепившееся ощущение мотива, влиятельности и желания (Mattingly, 1998). Вот пример того, как яркие детали могут так оживить обстановку, чтобы показать человека как морального агента, активно формирующего события в своей жизни. Примерно год назад, когда мы с коллегами из Calgary Narrative Collective готовились к IWP интервью и собирали информацию о человеке, справившимся с препятствиями, терапевт рассказала нам об эпизоде, в котором клиентка в качестве наказания оказалась брошена в поле — родители хотели преподать ей урок о последствиях непослушания. Но что, если бы терапевт не расспрашивала дальше?
Что, если бы терапевт не узнала обо всех деталях обстановки? Какое время года это было? Где они тебя оставили? Каким глубоким был слой снега? Что ты видела, когда смотрела наверх? Какое время дня это было? Что ты сделала? А что ты сделала потом?
Мы расспрашивали о деталях этого момента, и вот что обнаружили. Мы обнаружили, что тогда ребёнку было всего шесть лет, что это был разгар зимы после недавнего снежного шторма, который оставил её по пояс в глубоком снегу. Все эти детали имели огромную значимость, если мы хотели рассказать эту историю так, чтобы вовлечь клиентку в моральное прочтение этого конкретного события и помочь ей увидеть мотивы и желания, лежащие в основе её удивительной и впечатляющей реакции. К счастью, терапевт знала, что стоит расспросить как можно подробнее. Что же сделала 6летняя девочка, оказавшись в одиночестве по пояс в снегу в разгар зимней ночи? После небольшой паузы для оценки ситуации 6летний ребёнок встал, посмотрел на горизонт и, увидев ряд освещённых домов, спросил себя: «Может быть кто-то в этих домах полюбит меня?» И она начала свой путь, чтобы это узнать.
Мы расспрашивали о деталях этого момента, и вот что обнаружили. Мы обнаружили, что тогда ребёнку было всего шесть лет, что это был разгар зимы после недавнего снежного шторма, который оставил её по пояс в глубоком снегу. Все эти детали имели огромную значимость, если мы хотели рассказать эту историю так, чтобы вовлечь клиентку в моральное прочтение этого конкретного события и помочь ей увидеть мотивы и желания, лежащие в основе её удивительной и впечатляющей реакции. К счастью, терапевт знала, что стоит расспросить как можно подробнее. Что же сделала 6летняя девочка, оказавшись в одиночестве по пояс в снегу в разгар зимней ночи? После небольшой паузы для оценки ситуации 6летний ребёнок встал, посмотрел на горизонт и, увидев ряд освещённых домов, спросил себя: «Может быть кто-то в этих домах полюбит меня?» И она начала свой путь, чтобы это узнать.
...когда потеряно действие, теряется и возможность обнаружить укрепившееся ощущение мотива, влиятельности и желания
И теперь, когда обстановка и место событий восстановлены в ярких деталях, мы можем задать вопрос, который оживит эту обстановку и покажет Патрицию как морального агента, действующего в этих обстоятельствах с желанием, целью и надеждой, совершая то, что, пожалуй, обычно не по силам 6летним детям. Несмотря на драматический фон, породивший эти обстоятельства, Патриции стали доступны повышенные уровни значимости.
Вот как разыгрывалась эта сцена в первом действии интервью с Лори (терапевтом Патриции, которая взяла на себя роль девушки, давая тем самым ей побыть сочувствующим свидетелем собственной истории).
Вот как разыгрывалась эта сцена в первом действии интервью с Лори (терапевтом Патриции, которая взяла на себя роль девушки, давая тем самым ей побыть сочувствующим свидетелем собственной истории).
Том: когда в 6 лет ты оказалась в этом поле, с пониманием, что тебя оскорбили, и мыслями «о, думаю, они меня не хотят», когда ты оглянулась и, увидев огоньки, подумала «может быть, тогда захочет кто-то другой», что ты сделала?
Лори в роли Патриции: В тот момент?
Том: Да, что ты сделала? Ты просто представляла это, ты продолжала там сидеть?
Лори в роли Патриции: Нет! Я решила это выяснить и пошла по направлению к видневшимся домам. Да, наверное, я пошла с мыслями «в одном из этих домов меня могут хотеть и я собираюсь это проверить». Я знаю, что не сидела на месте, но продолжала идти вперёд.
Том: Ты каким-то образом заставляла — уговаривала свои 6летние стопы и ноги пойти выяснить...что ты хотела выяснить? Что влекло тебя вперёд?
Лори Патриция: Наверное, стремление найти дом. Семью, которая бы хотела меня...которая могла бы меня видеть; дома я была невидимой — но что забавно, и под пристальным контролем. Так что я была либо невидима, либо контролируема. Так что я думала, что может найтись место, где я смогу просто быть. Где меня не будут контролировать, но будут видеть.
Том: Я всё ещё думаю о тебе в том поле. Потому что из твоих слов мне кажется, что ты не сказала — как мог бы, наверное, практически каждый 6летний ребёнок — «наверное, я самый ужасный человек, если меня оставили здесь». Ты почему-то сказала: «Они не хотят меня. Может быть, кто-то в этих освещённых домах захочет». Что у тебя было за знание, которого у 6летних обычно нет? Что помогло тебе подняться и пойти? Что это? Знание о себе самой?
Лори в роли Патриции: Да, думаю, это удивляет и меня. Что иногда заставляет задуматься — как я это сделала? Но когда я слышу твои слова — насколько я могу вспомнить, у меня всегда было чувство, что я могу на себя положиться. Я могу на себя положиться, и когда ты говоришь, мне кажется, что даже тогда у меня было это чувство; что почему-то — да, что я не плохая. Меня бросили не потому, что я плохая...
Лори в роли Патриции: В тот момент?
Том: Да, что ты сделала? Ты просто представляла это, ты продолжала там сидеть?
Лори в роли Патриции: Нет! Я решила это выяснить и пошла по направлению к видневшимся домам. Да, наверное, я пошла с мыслями «в одном из этих домов меня могут хотеть и я собираюсь это проверить». Я знаю, что не сидела на месте, но продолжала идти вперёд.
Том: Ты каким-то образом заставляла — уговаривала свои 6летние стопы и ноги пойти выяснить...что ты хотела выяснить? Что влекло тебя вперёд?
Лори Патриция: Наверное, стремление найти дом. Семью, которая бы хотела меня...которая могла бы меня видеть; дома я была невидимой — но что забавно, и под пристальным контролем. Так что я была либо невидима, либо контролируема. Так что я думала, что может найтись место, где я смогу просто быть. Где меня не будут контролировать, но будут видеть.
Том: Я всё ещё думаю о тебе в том поле. Потому что из твоих слов мне кажется, что ты не сказала — как мог бы, наверное, практически каждый 6летний ребёнок — «наверное, я самый ужасный человек, если меня оставили здесь». Ты почему-то сказала: «Они не хотят меня. Может быть, кто-то в этих освещённых домах захочет». Что у тебя было за знание, которого у 6летних обычно нет? Что помогло тебе подняться и пойти? Что это? Знание о себе самой?
Лори в роли Патриции: Да, думаю, это удивляет и меня. Что иногда заставляет задуматься — как я это сделала? Но когда я слышу твои слова — насколько я могу вспомнить, у меня всегда было чувство, что я могу на себя положиться. Я могу на себя положиться, и когда ты говоришь, мне кажется, что даже тогда у меня было это чувство; что почему-то — да, что я не плохая. Меня бросили не потому, что я плохая...
Просмотрев это интервью и увидев свои оживлённые таким образом действия, Патриция сказала…
Вы знаете, я никогда не объединяла эти истории — эти две истории об огоньках на дистанции. Мне не казалось, что в этом есть какая-то связующая линия. Что вокруг этого, вокруг этих мерцающих вдалеке огоньков, возникла и протянулась в прошлое философская мысль. Это интересно…В 6 лет, проживая тяжёлый опыт заброшенности в зимнем поле, я оказалась очень философски настроенной...я не колебалась. Я побрела через этот доходящий до пояса глубокий снег, чтобы найти место, где меня будут видеть и любить. Мой взгляд был ясен. Связующая нить вела в прошлое.
И здесь я снова вернусь к Маттингли: «Драматический момент часто включает в себя персонажей, действующих вразрез с требованиями обстановки, порождая этим разные Сложности, которые должны быть тем или иным образом разрешены» (Mattingly, 2010, p.45).
Конечно, в своём нежном 6летнем возрасте Патриция действовала вразрез с требованиями обстановки, и благодаря внимательности её терапевта Лори к деталям, мы смогли найти самые разные сложности в Проблемной Истории и порождённых ею нечестных заключениях об идентичности девочки. В собственной жизни она явно была моральным агентом, действия которого побуждались знаниями и стремлениями за пределами её возраста.
Спустя две недели после интервью Патриция поделилась, как свидетельствование такому живому и драматичному детальному разыгрыванию её жизни повлияло на неё:
Это позволило мне с некоторой дистанции, из позиции взрослого подумать о ребёнке, которым я была. Когда я смотрела, как разворачивается история моей жизни, особенно в обстоятельствах моего детства и снежного поля, то мои чувства были словно отфильтрованы другими чувствами. Слышать о попавшем в такую ситуацию ребёнке, которым была я, обо всём, через что она прошла...сколько же в этом было несправедливости!
В интервью была сюжетная линия. История, которая развернулась и показала нечестность этого всего, дала мне возможность увидеть невинность. ЭТОТ РЕБЁНОК БЫЛ НЕВИНЕН...просто пытался расти, развиваться, стать частью чего-то, быть любимым.
Вы знаете, я никогда не объединяла эти истории — эти две истории об огоньках на дистанции. Мне не казалось, что в этом есть какая-то связующая линия. Что вокруг этого, вокруг этих мерцающих вдалеке огоньков, возникла и протянулась в прошлое философская мысль. Это интересно…В 6 лет, проживая тяжёлый опыт заброшенности в зимнем поле, я оказалась очень философски настроенной...я не колебалась. Я побрела через этот доходящий до пояса глубокий снег, чтобы найти место, где меня будут видеть и любить. Мой взгляд был ясен. Связующая нить вела в прошлое.
И здесь я снова вернусь к Маттингли: «Драматический момент часто включает в себя персонажей, действующих вразрез с требованиями обстановки, порождая этим разные Сложности, которые должны быть тем или иным образом разрешены» (Mattingly, 2010, p.45).
Конечно, в своём нежном 6летнем возрасте Патриция действовала вразрез с требованиями обстановки, и благодаря внимательности её терапевта Лори к деталям, мы смогли найти самые разные сложности в Проблемной Истории и порождённых ею нечестных заключениях об идентичности девочки. В собственной жизни она явно была моральным агентом, действия которого побуждались знаниями и стремлениями за пределами её возраста.
Спустя две недели после интервью Патриция поделилась, как свидетельствование такому живому и драматичному детальному разыгрыванию её жизни повлияло на неё:
Это позволило мне с некоторой дистанции, из позиции взрослого подумать о ребёнке, которым я была. Когда я смотрела, как разворачивается история моей жизни, особенно в обстоятельствах моего детства и снежного поля, то мои чувства были словно отфильтрованы другими чувствами. Слышать о попавшем в такую ситуацию ребёнке, которым была я, обо всём, через что она прошла...сколько же в этом было несправедливости!
В интервью была сюжетная линия. История, которая развернулась и показала нечестность этого всего, дала мне возможность увидеть невинность. ЭТОТ РЕБЁНОК БЫЛ НЕВИНЕН...просто пытался расти, развиваться, стать частью чего-то, быть любимым.
Что же, читатель, именно здесь история, история о том, как научиться рассказывать хорошую историю, подходит к концу. Хотя скорее, это даже её начало. Первый взгляд на то, как снова поместить в самое сердце нарративной практики хороший сторителлинг, и что мне понадобилось, чтобы по-другому задавать вопросы, а особенно — выделять время на оживление обстановки с помощью ярких деталей и давать людям возможность почувствовать себя моральными агентами, активно формирующими разворачивающиеся в их жизни события. В конце концов, ведь именно создание образа человека как активного морального агента в первую очередь является целью нарративной терапии. Говоря словами Майкла Уайта, нарративная терапия стремится обеспечить «исторический контекст исследования способности человека участвовать в своей жизни...исследование личной влиятельности, исследование того, что может быть названо агентским селф человека. Это включает в себя внимание к деталям того, через что человек прошёл с опорой на эту личную влиятельность, и через эти детали усиление значимости...шагов, которые человек предпринял, чтобы занять более авторитетную позицию по отношению к жизни» (White, 1995, p. 143).
Источники
Eptson, D. (2019). Re-imagining narrative therapy: An ecology of magic and mystery for the maverick in the age of branding. Journal of Narrative Family Therapy, Release 3.
Geertz, C. (1986). Making Experiences Authoring Selves (p. 373-379). In Victor Turner and Edward Bruner, (Eds). The Anthropology of Experience.
Mattingly, C. (1998). Healing Dramas and Clinical Plots: The Narrative Structure of Experience. New York: Cambridge University Press.
Mattingly, C. (2010). The Paradox of Hope: Journeys Through a Clinical orderland. Berkeley, CA: University of California Press.
Sampler, K. (2018). Word by Word: The Secret Life of Dictionaries. New York: Vintage Books.
White, M. (1995). Re-authoring Lives: Interviews and Essays. Adelaide, South Australia: Dulwich Centre Publications.
Geertz, C. (1986). Making Experiences Authoring Selves (p. 373-379). In Victor Turner and Edward Bruner, (Eds). The Anthropology of Experience.
Mattingly, C. (1998). Healing Dramas and Clinical Plots: The Narrative Structure of Experience. New York: Cambridge University Press.
Mattingly, C. (2010). The Paradox of Hope: Journeys Through a Clinical orderland. Berkeley, CA: University of California Press.
Sampler, K. (2018). Word by Word: The Secret Life of Dictionaries. New York: Vintage Books.
White, M. (1995). Re-authoring Lives: Interviews and Essays. Adelaide, South Australia: Dulwich Centre Publications.

